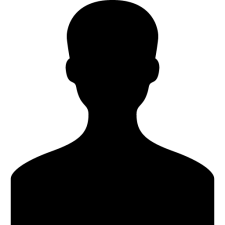В открытой машине с протяжным гудком приезжает адмирал Колчак проститься с Ником и его образцовым полком. Александр Васильевич Колчак делает короткий смотр казачьему полку, желает всем счастливого пути и благополучного возвращения, затем раздается команда «По вагонам!» и звонкий военный сигнал. Ник целует Лялю и затем подходит к маме, которая его крестит и нежно, как сына, целует в лоб. Третий звонок, Николай Васильевич становится во фронт перед Колчаком, который его сердечно обнимает — поезд трогается. Ник стоит у дверей вагона и берет под козырек. Казаки запели боевую песню, дружно, мощно. Увезли свою песню с собой. Дымок паровоза рассеялся.
НАШЕ БЕГСТВО
Красная армия перевалила за Урал. Мы должны покинуть Омск. К нам приехал Пепа с предложением поехать с его 6-м Ганацким полком, который получил распоряжение от высшего начальства немедленно покинуть город и отправиться на Кольчугинскую железную дорогу в деревню Топки. «Ну, что же, в Топки — так в Топки, а там увидим, что будет дальше», — говорит шутя, но с затаенной грустью папа. Едет тетя Оля, Губерт Иванович с Колей и Гогой и я с папой.
Пепа с трудом сдерживает радость, что с нами не расстается: «Ах, Танечка, как хорошо нам будет вместе! В нашем батальоне найдется для Вас верховая лошадь, и мы вместе будем совершать интересные прогулки в новых, неизвестных местах!» И вот мы едем, занимая в санитарном вагоне несколько купе. Утром у Пепы в амбулатории прием — бинтует солдатам руки и ноги, лечит больных, а после обеда это помещение превращается в нечто вроде нашей кают-компании и служит нам салоном. Двери широко раскрыты и перед нами под мерный стук колес мелькают чудные картины. Стоит теплая солнечная осень. Из леса доносится пряный аромат сосны. Листва золотая, местами багряная, красная. Деревья то по одиночке, то непроходимой стеной проплывают мимо. Как много влаги, как бурно текут ручейки, то спрячутся в густой траве, то снова весело выскакивают из-под земли, весело играя, зажурчат, забулькают опять... Вот над чистой водой родника склонились ветви папоротника. Сиреневые поздние цветы перемешались с незабудкой, а далее целое поле ромашки и клевера. Вот мелькнула серебряная, почти седая пихта, а вот стройными рядами, как в танце, проплыли ели. Поворот — стучат колеса, низко стелется дымок. Зайчишка куда-то мчится и пропадает в высокой траве. Мы остановились у какой-то станции, должно быть, для того, чтобы набрать воды и угля, а может быть, перевести дух, и услышали крик диких уток, стаей взлетевших над лесом. Как далеко позади революция и Гражданская война! И зачем она нам? Неужели нам тесно? Неужели нам всем не хватило бы всех этих богатств, которыми так щедро одарена наша родная земля?
Тесно деревьям, они сохнут и падают на землю, сгниют и через десятки лет превращаются в уголь. Сотнями лет копятся подземные богатства. Копай шахту и поднимай на поверхность это черное золото — уголь. Мало Кольчугинских копей — копай иные шахты, и обязательно наткнешься не только на уголь, но и на золотую руду и другие, полезные нашей стране минералы. А вот на солнечной поляне сложены длинные ряды смолисто пахнущих бревен. Не может быть, чтобы в нашей богатой Сибири жили бы голодные люди! Ведь Сибирь может прокормить не только себя, но и всю Россию, да и Европу в придачу!
ДЕРЕВНЯ ТОПКИ
Эшелон 6-го полка остановился в деревне Топки. Село Кольчугино в двух—трех километрах. Дорога туда ведет густой тайгой, сворачивать с магистрали не рекомендуется, легко можно заблудиться. Дома в Топках деревянные, место для жизни нездоровое, лежит на болоте и во время дождя утопает в грязи.
Сначала нам было в купе тесновато, но нет, кажется, положения, к которому бы человек постепенно не привык бы. После обеда денщик Пепы приводит нам обоим лошадей, ему Хвата, а мне белую Марусю, лошадь командира полка Навратила. Часто к нам присоединяются и офицеры штаба Бартль и Кнэхт. Я, как единственная дама, пользуюсь у всех большим вниманием, но Пепа старается многих вытеснить. Он не знает, чем мне угодить, всегда готов отдать мне свою долю шоколада, которую каждый время от времени получает, рвет мне цветы-огоньки и, когда мы остаемся одни в купе, это обыкновенно бывает вечером, берет меня за руку и неподражаемо нежно свистит мне Ich liebe dich Грига и «Юмореску» Дворжака. И вот, несмотря на всю его нежность и любовь, в которой у меня нет сомнения, я замыкаюсь в себе, принимаю его ухаживания, но не отвечаю взаимностью, с утра меня все в Пепе раздражает: и его огненная рыжесть, и подтянутая элегантность, и веселый смех.
«Знаете, Пепа, мне сегодня лучше остаться одной, я встала с левой ноги и прошу Вас за мной, как тень, не ходить!» Пепа вспыхивает, как зажженная спичка, и горячо протестует: «Но как же Вы пойдете одна через лес, это же просто безумие!» Мне хочется показать себя бесстрашной, и я настойчиво прошу меня оставить одну, а ему вернуться в эшелон. Пепа злится и бьет стеком в ничем не виноватый, подвернувшийся под руку куст: «Хорошо, поступайте, как знаете!..» Я остаюсь одна в лесу. До Кольчугина, куда вперед ушел Коля с Губертом Ивановичем, еще километр. Рельсы бегут и пропадают за поворотом. Направо от меня непроходимая стена леса, и от него веет жуткой тишиной. Мне становится не по себе. И кому, в конце концов, нужна моя бравада, и за что я так больно обидела Пепу? Кто это пробирается через лес, как зверь, ломая ветви? Да кто же это, Господи?! Сердце сильно застучало. Кто же это? Неужели зверь? Нет, это человек, но почему он такой страшный: черная борода закрывает почти половину лица, серая рубаха в дырах, открытая грудь черна от грязи! Кто он? Беглый каторжник, которых немало в этом краю?! Да, кто этот страшный бродяга? Что же мне делать? Бежать, закричать, позвать на помощь — но кого? Боже, какое счастье, из-за поворота выходит Пепа. Значит, он все же побоялся оставить меня одну! «Милый Пепа, как я рада, что Вы меня не послушались!» Снова затрещали ветки, бродяга скрылся в гуще леса. «Танечка, Вы так побледнели! Идемте скорее домой, ведь я же Вас предупреждал!»
С утра моросит дождик. Листва с трепетом впитывает влагу, каждая капелька задерживается и омывает каждый листочек, трава вся мокрая. Лесные дали заволокло туманом, затянуло завесой дождя. Решили на прогулку не ходить, а подождать вечера: авось, к вечеру прояснится. Папа углублен в чтение газет. Он или читает что-нибудь, или играет с кем-нибудь из офицеров в карты. Но, по моим наблюдениям, оторвавшись от привычного дела, он в душе тяготится бездельем, вида не показывает, но сильно скучает. Со стороны ему кажется, что я бездельничаю, ничем, кроме флирта и книг, не занята, часто капризничаю — вот он определенно решил заняться мною и привести мою нарушенную жизнь в какую-то систему. Должно быть, и Пепины переживания для него не секрет и возможно, что ему чуть-чуть поднадоели. «Ты бы, Танечка, занялась хотя бы кухней, научилась бы варить, может быть, тебе это когда-нибудь в жизни и пригодится! Форман — хороший повар, и я попрошу его тебя научить хоть что-нибудь готовить...» «Что же, ты прав, и я ничего не имею против», — говорю я, радуясь возможности хоть какой-то деятельности.
Вытянув из чемодана фартук и повязав голову платочком, я под руководством толстого эшелонного повара хлопочу в кухоньке нашего санитарного вагона: варим крепкий бульон, жарим огромного гуся и делаем бисквит из 20 яиц и фунта сливочного масла. «Ну, ты нас сегодня угостила на славу!» — хвалит меня папа, а Пепа сияет. «Вот, Танечка, — говорит он вечером, сидя на диване в купе при тусклом ночном освещении, — вернемся вместе в Прагу, я буду врачом, у нас будет чудесная квартирка и молодая хозяйка...» Как далеко от этой Богом забытой глуши улетели его мечты.
Ночью тревожный сигнал — оказывается, в районе Кольчугино объявился большевистский отряд. И вот мы снова едем вглубь тайги, в темный лес. В неизвестность. Офицеры и солдаты при оружии, в полной готовности вступить немедленно в бой. Будь что будет, но мне, во всяком случае, со сном бороться труднее, чем с партизанским отрядом. Стук колес укачивает, юность созвучна с легкомыслием и оптимизмом. Проснулась я под утро, когда закончилась облава, кого-то там поймали, большинству же удалось скрыться в непроходимом лесу. Мы снова стоим на станции Топки, как будто и никуда не уезжали.
Сегодня тайга бушует, верхушки сосен раскачиваются от ветра. Стволы деревьев скрипят и жалобно стонут. Мрачно в лесу. Наверное, этот вихрь повалит на землю не одну красавицу-сосну. Только к вечеру поутихло. Солнце показалось и скрылось, но на горизонте оставило след — пурпурно-золотое сияние. Должно быть, завтра будет хорошая погода.
Надев галоши и пальто, я иду с Пепой в деревню Топки навещать больных. Перепрыгивая с кочки на кочку, боясь попасть в лужу, мы идем от станции в поселок, который кое-где светится скупым огоньком. Пепа становится серьезным и больше со мной не шутит. В первой избе больной старик. Он бывший шахтер, он прикован к постели суставным ревматизмом, Пепа внимательно осматривает его ноги, затем прописывает ему лекарство. К сожалению, в Топках аптеки нет — за ним нужно посылать в Кольчугино, а может быть, и даже в Кемерово. От денег Пепа, конечно, отказывается, и мы шагаем дальше. Мы навещаем молодую женщину: после родов у нее кровотечение, и вообще положение тяжелое — у нее полная потеря сил. «Вы должны немедленно больную отправить в больницу, иначе она у вас умрет», — обращается Пепа к чернобородому мужику, оставшись с ним вдвоем в смежной комнате. «Да неужто Пелагея безнадежно больна? Я и не знал! Петровна, положи на телегу соломы да одень ее потеплее, горемычную...» Семья больной засуетилась, забегали с фонарем во дворе. Вот фонарь мелькнул в конюшне и снова у дома, тепло одетую больную под руки вывели из дому и посадили в телегу.
Возвращаясь обратно на станцию, мы с Пепой долго молчали, углубившись каждый в свои собственные мысли. Да, богата наша земля, а порядка в ней нет, мало интеллигенции. И с климатом нам бороться трудно. Населен наш край редко, от одного села до другого десятки верст — метелицы и бураны заметают все пути-дороги. Ну и отрезано население от всего мира на долгое время. Рук не хватает, руководства и терпеливого упорного труда.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОМСК
Мама пишет из родного и милого Омска письмо папе: «Без вас в доме стало пусто. Ляля была больна. Ненадолго приезжал Николай Васильевич с фронта. Наступление красных остановлено, вести с фронта утешительные, и мне кажется, что вы могли бы вернуться домой». И рабочие с завода тоже прислали письмо и просят папу вернуться и занять место директора: «Мы, Николай Николаевич, Вас уважаем и никакой и никогда от Вас обиды и несправедливости не видели…» Папа повеселел, шутит с нами и рад, что можно будет выбраться из этой глуши и вернуться к любимому делу.
«Мораво, Мораво, Моравьенко наше», — так звучит сигнал нашего 6-го Ганацкого полка, разносясь в свежем, тронутом первыми заморозками воздухе. Паровоз дернул, вагон наш качнулся и покатился по рельсам. Куда? Как будто дальше от Омска на восток, но мы знаем, что на первой же станции мы пересядем в первый же встречный поезд, едущий на запад, и в нем возвратимся домой.
«Спасибо, Пепа, за все, за все, а главное — за Ваше гостеприимство! Пишите, я не сомневаюсь, что мы с Вами еще увидимся!..» — говорю я Пепе и машу ему в открытое окно вагона.
ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ
Как дома бывают различны! Есть дома мрачные и снаружи и внутри, в них обыкновенно живут невеселые люди, и дома такие часто посещают болезни, неудачи и смерть, как будто и само место, где стоит подобный дом, пропитано флюидами горя и печали. Наш дом принадлежит к счастливым: в нем не задерживались надолго болезни, а приходили и уходили, как нежеланные гости. Дом наш гостеприимный, радостный, в летние вечера из открытых окон гостиной доносится музыка и портьеры в нижнем этаже, где приемные комнаты, не опускаются — зачем? Вечером окна освещены, видна люстра, цветы — фикусы и пальмы. За шторами мелькают тени. В доме живет большая дружная семья, вырастает молодежь, подрастают младшие дети. Солнечный дом улыбается. Но теперь все почему-то говорит, что жить нам в нем недолго. Из-за того, что чехлы, надетые на лето на мебель, так и не снимались и снятые шторы не вешались, в доме как-то неуютно и чего то не хватает. Утешительные вести с фронта не оправдались. Снова наступают красные. Белая армия сдает позиции.
Свадьба Гани Скороходовой и Мр. Сэдэгрэна прошла незаметно. Гостей было много, стол ломился от закусок. Мр Сэдегрэн выглядел официально во фраке. Молодым кричали «горько» и заставляли их целоваться. Потом молодые танцевали вальс и фокстрот. Затем они покинули свой дом и уехали в гостиницу. И тогда, без них, стало совсем невесело, танцы не клеились, и все рано разошлись по домам.
На Люлю тяжело смотреть! Что сделала с ней эта несчастная любовь к Сереже! Она превратилась в тень, так сильно осунулась за такой короткий срок. «Люля, милая, — пытаюсь я ее утешить, как могу, посадив ее в качалку в своей комнате. — Ну, стоит ли так убиваться? Посмотрите, на кого Вы стали похожи! Пощадите себя. Ведь острота чувства пройдет, придут иные интересы, может быть, придет иная, более счастливая встреча». Но, должно быть, только время излечит это тяжелое горе. Да, время-то сейчас действительно невеселое. Над всеми нами нависла туча. Все куда-то бегут, только вот Люля никуда уезжать не хочет. Придут большевики, займут город, как же жить в унылом, покинутом городе?
Няня Олимпиада приехала из Тары навестить нас в тяжелое время. Она хорошо одета: в тафтовом платье, с шелковой шалью на плечах, в руках у нее дорогая кожаная сумка. Дедушкин дом перешел в ее полное распоряжение. На своего любимца Колю она не может наглядеться, но он неуловим. Его пятнадцатилетний возраст не подчиняется никакой дисциплине. Он весь воплощение внутреннего протеста и готовый анархист. Иногда кажется, что ему большевики по душе и по вкусу, даже душевно близки. Пользуясь неограниченной свободой, он всюду поспевает. Где-то на окраине города взрыв — он уже там, пожар — он летит на пожар, все хочет видеть: чем тревожнее, чем сумбурнее, тем для него интереснее. Няня огорчена своим внуком Мишей, с недавних времен он комиссаром в Таре. «Ударился в революцию и ни в Бога, ни в черта не верит!» — заплакала няня, со вздохом вытаскивая фотографию своего внука. Неужели это тот самый Миша, с которым мы когда-то в детстве играли? Фуражка набекрень, глаза вызывающе наглые, у рта притаилась жестокая складка. В свое время он не хотел учиться, став по существу никем, и вот теперь вымещает на ком-то свои личные неудачи.
СНОВА БЕГСТВО
Узнав о том, что мы уезжаем, наш бывший повар, Потап Ульянович, в настоящее время владелец ресторана, пришел к папе проститься и принес с собой накопленную им кучку золота: «Вот Вам, Николай Николаевич, это в дороге пригодится, у Вас семья. А у меня детей нет. Мы с Линой как-нибудь пробьемся, поживем...» Папа тронут его заботой, но взять золото отказался. «Видите ли, Потап Ульянович, я Вам должен сказать, что я отправил кое-какую кожу на Восток. Если с ней в дороге ничего не случится, мы хотя бы на некоторое время будем обеспечены, будем все работать. Вот только младших поставим на ноги, остальные ведь почти взрослые люди — этот вопрос меня не трогает. А вот куда зашла наша страна — это дело другое, и как она выйдет из этого тупика — неизвестно».
Боря с управляющим завода Каем Петровичем уезжает первым. Он предполагает попасть в Англию, в Оксфорд, где по намеченному плану собирается учиться. Путешествие его Северным Ледовитым океаном небезопасно. Направление парохода на Мурманск, на порт, который никогда не замерзает, там англичане — союзники, но ведь во время пути Ледовитым океаном их пароход может быть затерт льдами и раздавлен, и тогда… Но лучше об этом не думать.
На днях уезжает правительство и Верховный Правитель Колчак.
В гостиной у нас гости: полковник Ярош, командир 6-го Ганадского полка и с ним майор Покорный. Они приехали с предложением эвакуировать нас из Омска. Через два дня их полк уезжает на Восток.
Последний раз я спускаюсь по лестнице террасы в сад и иду по самой отдаленной дорожке. Вот и скамейка среди полуголых деревьев, сумерки, дом возвышается, как крепость, и я всматриваюсь в него внимательно. Прощай, Иртыш, прощай, наш сад и дом. Новая жизнь начинается. После дневной суеты с укладкой дом постепенно утихает. Тушится свет наверху у старших братьев, потух и в комнате тети Оли, погасла люстра в столовой, только ночная лампочка в Лялиной комнате еще чуть заметно светится. Дом погружается во мрак, как бы прислушиваясь к чему-то новому. А это новое и есть рождение новой эпохи: придут иные люди, с которыми мы в конфликте, между нами и ними роковое и страшное непонимание, как будто мы дети одного и того же народа, как будто мы и говорим на одном и том же русском языке?..
Куда мы, собственно, едем? Пока на восток — летим, как птицы, инстинктивно чувствуя опасность: они, как и мы, поднимают головы, чутко прислушиваются, расправляют крылья и летят стаей за своим вожаком. Но мы эмигрируем массой без вождя, но мы теряем почву под ногами окончательно и, может быть, навсегда.
ОТЪЕЗД ИЗ ОМСКА
На утро у нас суета. «Егор Александрович, — говорит мама кучеру, давая ему последние распоряжения, — все остается Вам, и если Вам и Вашей семье будет трудно — распродайте лошадей и экипажи». Потом она в том же коридоре дает распоряжение Фросе — распродать в случае нужды белье, серебро и ковры. Завтрак беспорядочный, на скорую руку. Я горячо целую Люлю и вижу, что и она, такая сдержанная, тоже плачет. Перед отъездом присели в гостиной. Под образом кем-то зажжена лампада — когда мы будем уже далеко от дома, она потухнет. «До свиданья, Фрося! До свиданья, Ян!» — автомобиль Николая Васильевича увозит нас на вокзал. Последний взгляд на дом, на котором уже развевается многоцветный китайский флаг. Завтра в него переезжает китайский консул.
ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ
Окно заиндевело, и сквозь молочно-белое стекло почти ничего не видно. Мы третий день в пути, едем медленно, подолгу стоим на остановках или просто в степи, так как перед нами и за нами путь забит эшелонами. Волей-неволей привыкаем к нашей тесноте и порядку полковой жизни. Ранний обед в 12 часов состоит из супа, мяса и кнедликов, сначала он удивляет своим ранним часом, а затем своим однообразием. Папа, видя в котелке все те же кнедлики, говорит: «Ну как же можно есть и переварить это вареное тесто?»
В теплушке в нашем эшелоне едет и Губерт Иванович, который этим огромным путем через Сибирь рассчитывает вернуться к своей семье на родину, и повар Вацлав, который на печурке-буржуйке умудряется скрасить нам однообразный стол каким-нибудь незамысловатым блюдом, вроде котлет или бефстроганова с жареной картошкой, и на остановке частенько подобное блюдо приносит в наш классовый вагон. Для Гоги, который нездоров и сильно простужен, он умудрился приготовить шоколадный крем-бисквит.
«Василий Васильевич, ну как Вы эту прелесть сделали?» — спрашиваем мы с Лялей и ждем его ответа. «О, это очень нэ трудно: то е булка з молокэм, мэшать, мэшать з сахар», — объясняет он нам, сопровождая свою речь выразительными жестами, становится веселее. Непривычная обстановка и скука медленной езды на время забывается. Сидим мы в большой тесноте, котелок с едой держим в руках. Место больного Гоги на плетеной корзинке заменено Лялей или мной. От всех неудобств я частенько впадаю в уныние и тогда иду в коридор, желая остаться одна, прижимаюсь лбом к стеклу и всматриваюсь в бесконечно снежную равнину. Наши соседи по купе живут своей особой жизнью. За стеной, тихо напевая и позвякивая шпорами, ходит майор Мезель Мезль; мимо нашего купе, всегда чем-то занятый, пробежит майор Покорный. Капитан Хайтеля в своем купе много внимания уделяет птицам, которых везет в клетке. Малиновки чудесно распевают, особенно по утрам, когда светит солнце. Жена адъютанта Фирочка Ванштейн часто зовет свою маленькую непослушную таксу: «Сибирочка! Сибирочка! А скажите нам, майор, какая это станция и далеко ли нам ехать до Томска?»
Остановка. Мы выходим на воздух.
С обеих сторон красновато-серые теплушки. Стоим долго, целый день, может быть, вот так простоим и завтра. Колеса крепко примерзли к рельсам. Нечистоты выливаются наружу, превращаясь в желтовато-грязный лед. Идем мимо беженского санитарного вагона и слышим крик пробегающего с палкой санитара: «Эй, мертвых выноси!» — и неистовый стук палкой в стену теплушки. В ответ мы слышим железный лязг отодвигаемого болта и видим, как на носилках какие-то люди, вероятно, близкие, вытаскивают умершего, ничем не прикрытое мертвое тело. «Это тифозный вагон», — говорит мне Ляля, хватая меня за рукав шубы, и мы обе пускаемся в бегство. Вокруг темно и жутко, и как тихо в этих унылых теплушках, они дышат агонией или смертельным покоем.
В том же поезде, но не в классном вагоне, едут и наши родственники Балыковы. Первые дни, не учитывая обстановки, почти на каждой станции они выходили пройтись — закутанные в дорогие меха, в меховых нарядных шапках, олицетворяя своим видом типичных «недорезанных буржуев», но чем тяжелее и безрадостнее становилось наше бегство, тем больше и больше страдала их спесь, и весь их внешний лоск стерся и потускнел. Скучно и нудно маленьким девочкам, Тоне и Тане, сидеть целый день на нарах и перелистывать давно прочитанные книги или что-то рисовать под сотрясение и стук колес беспросветной утомительной езды. Они капризничают, часто плачут или ссорятся друг с другом. Несмотря на скученность, жизнь теплушки течет, не изменяя традиции предков. Умывшись утром и расчесав перед зеркалом свои пушистые усы, отец семейства становится на утреннюю молитву перед образом Спасителя в золоченой ризе. Минута набожного молчания, но возня детей не дает ему сосредоточиться в молитве и уйти от мирского, суетного. «Да тише вы, девочки, перестаньте, наконец», — слышится его гневный голос, и снова водворяется тишина, снова уста шепчут утреннюю молитву.
В пять часов нам в котелке разносят ужин, впереди длинный, бесконечно длинный вечер. Электрическая лампочка под потолком горит так тускло, что читать или что-нибудь зашивать почти невозможно. Майор , по-видимому, тоже томясь скукой, остановился у нашего купе, разговорился с Лялей и пригласил нас всех в гости вместе с кузиной Надей. Под потолком у наших соседей горит яркая лампа, майор Покорный как любезный хозяин угощает нас бутербродами, печеньем и чаем. Как уютно и просторно, и как быстро забываются и наши неудобства, и теснота, и что мы куда-то едем в неизвестность, словно с каждой верстой удаляясь от прежней беззаботной жизни.
«Давайте играть в почту», — предлагает майор Мезель: он познакомился с этой игрой, бывая в русских семьях. Кузина Надя, талантливая художница, не долго думая, нарисовала карикатуры на присутствующих и бойко их разослала по почте, вызывая этим всеобщее восхищение и смех. Покорный, Франц Францевич — бывший офицер Австрийской армии, теперь чешский легионер, по происхождению чех, родом из Праги, в нем чувствуется хорошее воспитание и безукоризненные манеры. Мы веселимся, смеемся и не замечаем, что время летит и что пора покидать гостеприимный клуб «Висячей лампы».
Паровозов нехватка, и вот мы, как жертвы, стоим уже четвертый день на каком-то унылом разъезде. У Гоги завязаны уши, его навещал полковой врач и прописал ему ушные капли. Температура упала, и он целый день сидит у окна и рисует паровозы всех величин и систем: «Это декапот № 6, а это № 7...» Мы надеваем шубы и идем с Надин на воздух. Ярко светит солнце, наезженная дорога извивается и ведет нас в деревню. Какое счастье вырваться из тесного вагона на снежные широкие просторы. «А вот и мельница — она уже развалилась...», — пропела Надя. Поток остановился, закованный льдом. Огромное колесо занесло снегом. Жизнь кругом оцепенела. Надя рисует быстро, штрихами заносит пейзаж на бумагу. Уже смеркалось, когда мы, не дойдя до деревни, слышим протяжный сигнал нашего эшелона.
Паровоз прицепили, и мы снова едем, ведь движение — жизнь. Но на этот раз паровоз дернул — и ни с места, дернул второй раз — колеса крепко примерзли к рельсам и не могут вырваться из ледяного объятия мороза. Наконец то поезд тронулся, с верхней полки свалилась корзинка, вызвав этим смех и шутки.
На станции Марининск на огромной деревянной доске приклеены записки, письма и целые воззвания. «Сонечка, родная, я с эшелоном польских легионеров еду Харбин—Владивосток, мама...» «Юрик, держи направление Чита—Хабаровск, да хранит тебя Бог! Твоя Наташа Р.» « Под командованием генерала Пепеляева мы свернули с магистрали. Юнкера Егерского Сибирского полка». Среди этих строк и воззвание к казакам-забайкальцам атамана Семенова. От Сережи никаких вестей! «Неужели он свернул с магистрали и поехал в Томск? Зачем он это сделал? — говорит мама, снимая с себя теплый платок и в изнеможении опускаясь на мягкий диван купе. — Почему и зачем он не поехал дальше на восток?»
Сколько в этих записках тревоги и горя, они как документы о разбитых жизнях. Белеют на деревянных шестах, в них неутешимые слезы матерей, предчувствующих гибель своих детей иль вечную разлуку. Тускло горят фонари. Тоскливо гудят провода, свистит ветер, словно стонет и поет свою «вечную память» и служит панихиду по зря загубленным, погибшим душам.
Чешская армия демократична: «Братрше плуковнику», — рапортует солдат-легионер, принесший какое-то секретное поручение нашему командиру полковнику Ярошу. «Ох уж это мне братание! — говорит майор Мезель, обращаясь к нам. — Доведет оно нас до хороших порядков, увидите!» Он настроен мрачно, уже не поет шансонетки за стеной и на днях, говорят, так напился, что начал ругать все порядки, не пощадив и прямое начальство! Покорный постарался его успокоить, и, наконец, ему все же удалось уговорить его улечься спать.
Полковник Ярош везет с собой молодую девушку, русскую. Она бросила родных и сбежала с ним, зная, что он женат и отец двух детей. Вообще, каждое купе нашего вагона — это иной мир со своим особым характером и настроением. Штаб 6-го полка — это случайное соединение различных по духу, образованию и характеру людей, объединенных, пожалуй, только одной целью — скорее выбраться из этой русской неразберихи, скорее попасть домой, в свой обетованный чешский рай. У них даже сигнал полка (неофициальный):
Za Bajkal, za Bajkal,
Aby Trockij nedohnal…
На занесенной снегом станции стоим уже пятые сутки. Вечером к этой станции подошел второй батальон. Из санитарного вагона выскочил Пепа в башлыке и теплых кожаных перчатках. Почти не ожидая остановки, он выпрыгнул из него и побежал к нашему эшелону, ворвался в вагон и бросился к нам, полный тревоги и забот о нас, живы ли мы и как нам едется в этих тяжелых условиях.
Сняв свою шинель и фуражку и сев на диван, Пепа рассказывает: «Представьте себе, под Томском, куда мы свернули позже, я на станции вижу пару, сидящую, на чемоданах — Володю и Наталью Иллиодоровну! Тот поезд, на котором они ехали, был переполнен, и их бесцеремонно высадили. Сидят они, замерзли совсем и ждут не дождутся спасения. Я взял их в свой санитарный вагон. Теперь вот — новая случайность: наша с вами встреча!» Пепа сияет. «Теперь, Танечка, мы целых два дня пробудем вместе! Ну, а как Вы, Лялечка, живете?» Не успели мы ему задать вопроса, как он вскочил и исчез, но через минуту снова вернулся с шоколадом и банкой какао в карманах шинели: «Это вам, пейте какао, вы осунулись и похудели!»
Вечером мы в гостях во 2-м батальоне. Пепа мажет маслом бутерброды. Володя из спирта разводит водку. Наташа, сидя на деревянной скамье санитарного вагона, покрытой серым одеялом, подбирает аккомпанемент на гитаре к проникающему в душу цыганскому романсу.
«Вот он, наш спаситель!» — поднимает рюмку водки Володя, указывая на счастливо улыбающегося Пепу. С нами же и Коля. Где он только не блуждал, выбравшись из Омска: и кочегару помогал на паровозе, и зайцем не раз пробирался. И вот, разыскав случайно Пепин батальон, он перебрался в него и едет в нем, как маленький доброволец в Чешской армии. Одет он в чешскую форму, и ему даже выдана винтовка! Как быстро вырастают дети в наше тревожное время! Он сам научился бороться за жизнь, за собственное спасение! «Я писал Вам, Танечка, много писем, но почему же Вы моих писем не получали? Не понимаю, почему майор Покорный Вам их не передал — для меня это просто загадка!» «Майор Покорный — очень порядочный офицер, это, конечно, не его вина, виновата ваша почта». «Куда же, собственно, мы едем?» — спрашивает как бы сам себя Володя. «Куда? За границу к япошкам? Покорно благодарю! Дальше к нашим дорогим союзникам-англичанам? Чтоб нам, простите за выражение, плевали в морду! Да ни за что на свете! Лучше уж во Владивосток! Ну, придут туда большевики — и те лучше: все же русские, отраднее видеть их, чем эти подлые морды лордов — покорно благодарю, насмотрелись достаточно. Вот они, полюбуйтесь — гастролеры-союзнички!..» К станции шумно подкатил международный экспресс, сверкнули зеркальные окна пульмановских вагонов, яркое электричество на миг ослепило глаза. Пожилой военный в английском мундире с сигарой в руке остановился у окна. Какой комфорт! Для них, союзников, очищена сибирская магистраль, они полные хозяева на нашей земле! Какое им дело, что в беженских вагонах гибнут женщины и дети, раненые и больные добровольцы, что за нами отступает целая армия Капеля и Пепеляева, совершая легендарный Ледяной поход, оставляя на своем скорбном пути тела замерзших, искалеченных людей. У англичан прежде всего business и благоденствие их собственной страны!
Задержались на разъезде: паровоз, обдавая заиндевевшие теплушки белым паром, отправился в обратную сторону набрать воду в только что нами покинутый разъезд, а мы стоим, забытые им и целым светом, среди густого, непроходимого леса. Вдруг дверь нашего вагона открывается — и кого же мы видим? Закутанного в башлык и в легкой офицерской шинели без погон — Петю Лушникова! «Петя, какими судьбами?» — восклицаем мы, вскакивая со своих мест... «Ну, прежде всего, здравствуйте! — непослушные замершие пальцы с трудом развязывают башлык. — Признаться, сам не ожидал! Сижу на этой Богом забытой остановке и жду у моря погоды, и чего жду, сам себе не представляю! Положение критическое, хоть пешком иди по шпалам, да куда уйдешь в этих шикарных штиблетах, сами понимаете! Доехал я до этой станции с эшелоном корниловцев, да кто-то возьми да отцепи наши последние два вагона. Все разбрелись, кто куда, а я один сижу на вещевом мешке и все чего-то жду. Подъезжаете вы — из штабного вагона выходит майор, я подхожу и спрашиваю его, совершенно ни на что не надеясь, кто едет в эшелоне и нет ли в нем случайно беженцев? И что же оказалось: называет он вашу фамилию. Ну, думаю, повезло Петухе, свои!»
Теперь Петя поедет с нами, все в нашей жизни судьба: не задержись мы на этой дикой полустанции лишний час, вне всяких правил и расписаний, м.б., наш друг пропал бы, замерз или попал в руки большевиков, которые бы с ним, наверное, церемониться долго не стали бы.
Уехал второй батальон, опередил нас, покинул, бросил на произвол судьбы. Мы долго махали нашим вслед, до тех пор, пока их санитарный поезд не изогнулся лентой на повороте, покуда последний вагон не скрылся из глаз. Дымок рассеялся, растаял в синей дали, и снова без них стало грустно и одиноко, снег кругом да наши невеселые вагоны с заиндевевшими окнами.
Рано, чуть свет, на станцию бесшумно подкатил Литерный поезд Колчака. Литерный — это значит экстренный, правительственный. Буквы L-R (Laisser—Passer) дают ему право ехать без задержки, однако же на этой станции он почему-то задержался. Затем подъехал другой поезд, который за ним следовал с экстренной охраной конвоя, состоящей из длинного ряда теплушек. По слухам, содержащий государственный золотой запас. Николай Васильевич сейчас же перешел в наш поезд. По его рассказам, едет адмирал в очень трудных условиях, их всех стеснили, по семь человек в одном купе, где они помещаются с трудом. Мы одеваемся и выходим на перрон. Поезд Колчака едет с союзническими флагами: французским, английским, чешским и японским. Шторы спущены у окон, никого не видно. Мельком мы видим адъютантов Колчака — Трубчаникова и Князева. Раздается второй звонок. Николай Васильевич спешно прощается с нами, вот его высокая фигура быстро поднимается по ступенькам вагона, он оборачивается и машет нам рукой. Третий звонок. Поезд бесшумно отходит. Так и не успели толком поговорить, спросить о самом важном, непонятном, какая же это тайна притаилась за этими темными шторами вагонов. Хотелось сказать много ласковых слов на дорогу — и не успели. Такая короткая встреча, как мираж в этом невеселом и непроглядном пути.
Татьяна Машинская, подготовка текста: Елена Недзведска