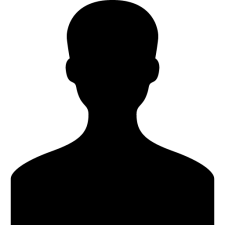— Сергей, откуда ты родом? Что бы ты предложил читателям в качестве своей биографии?
— Когда-то я был «коренным ленинградцем в третьем поколении», а теперь я просто житель нашей планеты и в то же время своей «отдельной реальности» (здесь можно вспомнить A Separate Reality Карлито Кастанеды), и это самое славное «чувство места». Эту «отдельную реальность» я пытался создать с помощью поэзии. Постепенно поэзия стала для меня образом жизни, я стал в ней жить все чаще и, наконец, переселился в нее почти полностью. Ведь все, что совершается в истории людей, — а история людей есть история их мыслей, — совершается в наших «отдельных реальностях», т. е. в наших сознаниях, эмоциях, чувствах, интуициях. Задача поэта — облечь эти внутренние «отдельные реальности» в доступные пониманию внешние слова общего языка и сделать это так, чтобы непередаваемое внутреннее стало хотя бы отчасти передаваемым вовне. Обычные же, повседневные наши слова, какими бы «честными» и «порядочными» мы себя ни считали, — это всегда созданные нашим опытом своего рода «декорации», которые мы выбираем для себя в меру личного вкуса, чтобы за ними спрятаться и выставить их вместо самих себя, внутренних. И это нормально, так и должно быть, чтобы человек выжил. Но вот человек-поэт (и он не обязательно должен действительно быть стихотворцем), хочет он того или не хочет, чтобы быть самим собой, постоянно должен жить вне декораций и кулис, т.е. на открытой сцене внутренней реальности. Мне кажется, что для такой жизни нужны мужество, мудрость, терпимость и искусство понимать молчание людей. Всего этого мне очень не хватает. Но я стараюсь, все еще стараюсь овладеть этими качествами. Так я живу и из этого и состоит вся моя биография.
— Сергей, буквально на днях вышел твой двухтомник стихов и комментариев к ним. Как возник замысел этой работы?
— Божескую несправедливость (или то, что мы считаем Божеской несправедливостью) я всегда стараюсь понять и смириться с ней, а вот человеческую переношу очень тяжело. Ну а тот особый вид человеческой несправедливости, с которым я столкнулся в своей жизни и который называют теперь множеством имен — «советская власть», «период застоя», «жидо-большевицкая оккупация», «Евразия-Азеопа» или просто «Россия как она есть всегда» — состоял для меня в том, что ни одно свое стихотворение увидеть в печати я не мог. Ни по «содержанию», ни по «форме» мои стихи не устраивали идеологов от литературы. Но поэт (да и любой творческий человек), который не может реализоваться в своем призвании, в своей единственной работе, попадает в страшные социально-психологические жернова: с одной стороны, он сам считает себя полноценным творцом, с другой стороны, оказывается, что он никому не нужен. За двадцать лет моей поэтической работы в СССР (1970—1990) в официальной печати появилось шесть моих стихотворений, да еще прошедших через сито жесточайшей идеологической и эстетической цензуры. Когда же стихи моих коллег стали свободно выходить в России (после 1990-го года), я уже был в эмиграции и теперь не мог ничего опубликовать, потому что не имел больше никакой связи с российским литературным миром. Еще почти двадцать лет я прожил в Праге в абсолютном одиночестве, т. е. без творческой среды, без всякой надежды на публикации. Однако несколько лет назад мне посчастливилось заочно познакомиться с российским издателем и поэтом Евгением Кольчужкиным, который решился издать книгу моих новых стихов в Москве («В долине Элах», 2010). С тех пор все мои книги издаются в его издательстве «Водолей». Наконец пришла пора составить — в качестве жизненного отчета — и все достойное к публикации из написанного в СССР. Так родилась идея «первой книги» (которая, на самом деле, оказалась шестой по очередности). Но тут возник вопрос: разумно ли издавать в 2014 г. стихи, написанные в прошлом столетии, поймут ли читатели эту «археологическую» затею? Поэтому издатель предложил мне написать «комментарий» к собственным стихам. Я после долгих сомнений принял эту идею, но, когда стал писать, получился комментарий не столько к стихам, сколько к самой эпохе, комментарий антропологический и историософский, который не мог просто следовать за стихами, но превратился в отдельную книгу под почти гетевским названием: Dichtung und Wildheit [«Поэзия и варварство»]. Таким образом возник двухтомник, только что вышедший из печати в Москве.
— Однажды пришлось от тебя услышать, что ты воспринимаешь мир словами. Каково тебе жить в этом мире, где слова создают среду повсюду и от них невозможно скрыться?
— Я думаю, что реальность, в которой мы живем, создается языком, на котором мы говорим. Т. е. каков язык, такова и реальность, а не наоборот. Может быть, все беды России, как, впрочем, явно и всех вообще этносов, говорящих на славянских языках, коренятся в самом устройстве славянских лингвистических структур — просто потому, что сами эти языковые структуры еще во многом очень архаичны. Эту архаику я чувствую всем своим существом. Поэтому слова родного языка мучают меня, как, возможно, мучили когда-то первые слова какого-нибудь первобытного шамана. Это «шаманство» заключается в том, что мне достаточно порой услышать просто интонации, с которыми произносятся русские слова, чтобы увидеть мир говорящего, в котором тот живет. Поэтому мне трудно общаться с людьми. Я часто вижу их в состоянии своего рода «внутренней обнаженности», поэтому мне приходится очень часто ломать привычный способ коммуникации, чтобы не видеть этого их состояния, оно порой для меня невыносимо, я просто стараюсь тогда быстро исчезнуть. Это моя ежедневная мука. Но изменить здесь я ничего не могу. Пытаюсь бороться с этим «даром» иронией, юмором, но ведь от людей никуда не уйдешь, ведь живешь среди них и сам ты один из них. Во времена средневековья меня, очевидно, сожгли бы на костре. Возможно, вместе с тобой.
— Пронзительно для меня в книге комментариев не только твое одиночество как фатальный приговор общества, но те камни, которые ты пришел собирать: одиночество—познание—изгнание. Притом, познание и изгнание — это из библейского сюжета, а одиночество — из человеческого…
— Одиночество возникло не столько из-за «приговора общества», сколько из-за этого состояния «обнаженности» во всяком общении (в том числе, конечно, и с чиновниками, милицией, в армии с командирами, вообще со всякой «властью»), о котором я только что говорил. К этой «обнаженности всепонимания» прибавляется еще мой темперамент. Я не умею сдерживать себя. Кассандра себя тоже не сдерживала. Она тоже обладала даром «обнаженного слуха» (по легенде, две змеи во время сна вылизали ей уши, и она стала «слышать» будущее). Тем, кто обладает таким слухом, как правило, никто не верит. Кассандра тоже была одинока и «социально не реализована», тоже познала эту цепочку — одиночество—познание—изгнание. Вопреки ее предсказаниям, троянцы впустили в город деревянного коня с греками, а потом Кассандру изнасиловал Аякс, сделал рабыней Агамемнон и убила Клитемнестра. Так кончается миф тех, кто одинок; он зародился еще до библейских сюжетов и будет осуществляться всегда, потому что это останется — одиночество—познание—изгнание.
— Не кажется тебе, что события, которые ты описываешь — годы диссидентства в Ленинграде, поход с армией в Прагу в 1968 году — уже получили у тебя переоценку, и ты описываешь себя настоящего? В книге нет наивности… хотя нет: там ведь есть стихи, обращенные к Павке Корчагину.
— Стихи, обращенные к Павке, написаны в возрасте 17 лет, поэтому их наивность понятна. А то, что свою жизнь я оцениваю теперь иначе, чем когда-то, это естественно. Именно теперь, отягощенный опытом и кое-как научившись отличать «добро от зла», я и стараюсь понять, что́ я сам и моя страна делали, для чего и как… Эти попытки понять вылились в попытку историософии. Свой историосфоский трактат я пишу уже несколько лет. Некоторые мысли из него вошли и в комментарий к стихам 1963—1990 гг. В основе этих мыслей лежит переоценка жизни. Эта переоценка, которую русский историософ Александр Ахиезер называет «критикой исторического опыта», необходима не только каждому из нас, но и каждому этносу. Трагедия русского этноса состоит как раз в том, что эта переоценка, эта критика своего исторического опыта у него почти отсутствует. Поэтому до сих пор нет, например, глубинной оценки «похода на Прагу»: существует либо яростное отрицание его необходимости, либо яростная защита. Само это историческое событие до конца не понято ни в России, ни в Чехии, слушать никто никого не хочет и не собирается. А мне писать об этом больно. Здесь погибли мои товарищи, повинные только в том, что не по своей воле оказались не в то время не в том месте, а теперь давно уже в России всеми забытые, а в Чехии всеми про́клятые. Так что, какая уж тут наивность.
— В посвящении твоей книги значатся, если не сбилась со счета, 40 личностей, мертвых и живых, — и Мария. Ты действительно им всем благодарен? Или расскажешь о ком-то одном?
— Я благодарен всем. Каждый передал мне опыт, о котором я бы иначе не узнал. Особо интересен опыт творческого человека. Хотя, имея дело с творческими людьми, всегда имеешь дело с монстрами. Здесь вопрос: гений — это «монстр» или «нормальный человек»? И если это монстр, то лучше общаться с ним, когда он уже мертвый, или пытаться выносить общение с ним, когда он еще живой? Я видел достаточно живых творческих монстров. Мертвые творцы тоже были монстры, каждый по-своему. Но без них моя жизнь была бы неполноценной. Если же говорить о ком-то одном, кому я благодарен больше всех, то это Мэттью Макконахи. Он научил меня смотреть в зеркало величиной с монетку в пятьдесят чешских крон, в котором видишь только собственный зрачок.
— Живые чешские и русские поэты и писатели — они существуют в твоем мире?
— Да, есть несколько живых (или живых для меня). Русские и израильские поэты Сергей Стратановский, Сергей Круглов, Вера Павлова, Михаил Гробман, Анна Горенко, Иехуда Амихай (последние двое хотя и умерли, Анна в 1999 г., Иехуда в 2000 г., но я веду с ними разговор как с живыми), американский писатель Дэн Симмонз, а из чехов только один — прозаик и культуролог Мартин Ц. Путна. Наверное, и еще кто-то, но сразу всплывают только эти имена. Современная чешская поэзия и проза (после конца Первой республики), равно как и чешский кинематограф (после расцвета 1960-х гг.), меня мало привлекает. А ведь были же гении — Ярослав Дурих, Йиржи Ортен, Якуб Демл, Иван Блатни, Ян Заградничек, Йозеф Флориан, Франтишек Дртикол, Отакар Бржезина, ну и самый мой любимый, даже как бы alter ego, — Ладислав Клима… А теперь — тишина. Впрочем, если ты меня поправишь, буду только рад. Только не предлагай Кундеру, Шкворецкого, Грабала или Вивега, а то я начну голодовку на Вацлавской площади.
— Ностальгия — это бунинское время? У тебя не было бунинского детства и нет бунинской ностальгии? Но у многих вокруг приступы ностальгии по СССР есть, и они опять реанимируют то общество, говорящее словами школьной уборщицы… Ты можешь себе представить еще раз прожить это детство, в которое впали твои земляки?
— Присутствие и отсутствие ностальгии зависит от человека. Человек — это то, что он делает. Если он хотя бы в минимальной степени делает нечто такое, что придает его жизни смысл, да хотя бы искусно варит борщ, ностальгия ему не страшна. Если же абсолютно ничего смыслообразующего он в своей жизни не делает, то он испытывает ностальгию и на родине, ностальгию по настоящей жизни, потому что та, которую он ведет, у него не получается, бессмысленна, ему самому не нужна. Жизнь должна быть произведением, созданием человека, потому что жизнь — это явление не этническое, а экзистенциальное. Ну вот американец Хэмингуэй ВЫБРАЛ себе для жизни Кубу, поляк Джозеф Конрад — Англию, американец Эзра Паунд — Италию, ирландец Джеймс Джойс — Триест и Швейцарию и т.д. Где же их ностальгия? А не было у них ностальгии. Вместо ностальгии была работа, творчество, создание своих неповторимых миров и динамичная жизнь. Почему же была ностальгия у Бунина и не было ностальгии у Паунда? Да потому, что собирательный символический русский эмигрант «бунин» был порождением русского государства, русского племенного коллектива и без этого государства и коллектива не мог жить, а все эти гады-американцы и прочие были порождением самих себя и ни в каком своем государстве не нуждались, наоборот, их родины потом нуждались в них и нуждаются в них до сих пор. Нуждается ли наша родина в Борисе Поплавском, в Довиде Кнуте, в Юрии Мандельштаме, в Георгии Адамовиче, да даже и в носителе нобелевки Иване Бунине? Да вряд ли. Наша родина нуждается в выгодных ценах на нефть, но не в людях, хотя бы каким-то образом создающих культуру и цивилизацию. И так было всегда. Нуждалась наша родина в Пушкине, Лермонтове, Толстом? Пушкин и Лермонтов были обвинены культурным обществом в устраивании дурацких дуэлей с благородными Дантесом и Мартыновым, Толстой был предан всецерковно-государственной анафеме и т. п. и т. д. Однако, скажем, Пушкин, хотя и был тоже в большой степени дитя русского коллектива, все же был личностью, выше всего ценил «самостоянье человека» и всю жизнь стремился покинуть дорогую родину, «черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом» (18 мая 1836 г.), и, думаю, он не испытывал бы в своей добровольной эмиграции ни малейшей ностальгии, как не испытывали ее ни Владимир Печерин, ни Иван Гагарин, ни Александр Герцен, ни множество других русских людей, ставших личностями. Что касается меня, то первые годы здесь я мучился страшно — не было ни Финского залива, ни Обводного канала, ни друзей, ни запаха родного города, даже вкус хлеба или помидоров здесь был чужой… Но эту ЖИВОТНУЮ тоску по родине я, ЧЕЛОВЕК, с самого начала пытался вытеснить постоянной работой, хотя и знал, что работа моя (я занимался историей) никому не нужна и никогда не будет опубликована. Однако я писал, думал и пытался выжить. И вот постепенно эта работа мысли и стала моей родиной, и в этой точке кончилась всякая ностальгия. Я, наконец, переродился из «советского», «русского» — просто в человека. Конкретно, в поэта русского языка и «частного мыслителя» (самоопределение Чаадаева), живущего там, где он хочет жить. Теперь моя родина находится во мне самом и может исчезнуть только вместе со мной, а не в связи с переменой географического пространства. Ну а что касается ностальгии по СССР и реанимации того общества, в котором прошла половина моей жизни, то от подобных глупостей Господь избавил. Хотя земляков моих я очень хорошо понимаю. Дело опять же в старой оппозиции «личность — государство». Личность — это, прежде всего, ответственность, и ответственность, прежде всего, за самого себя. Не за Россию, не за наше наследие, не за славу отцов и дедов, а за свои каждодневные поступки и, главное, за свой повседневный образ мыслей. Если нет ответственности за самого себя, то нет и личности, а если нет личности, то нет и цивилизованной страны, а есть только Левиафан, пожирающий своих детей, «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», как заметил еще мудрец Радищев… У земляков моих (во всяком случае, у подавляющего их большинства), как я вижу, до сих пор никакой личной ответственности за образ своих мыслей не наблюдается, зато преобладает огромная «забота о благе Родины», любимое их местоимение теперь — «наш», «наше», «наши», а любимое слово — «Россия». Мои любимые местоимения — я, ты, Вы, он, она, а любимое слово — Мария.
— Ты не теряешься в коридорах Клементинума? Ты не говоришь с людьми, которые тебя окружают шумной толпой, о стихах… Ты живешь двойной жизнью среди людей? И как тебе удается думать и рождать мысли в твоей одиночной камере?
— Коридоры Клементинума (Национальной Библиотеки) — это моя вторая родина, в ней есть свои дальние луга, известные только мне, и среди них я очень люблю «теряться» — буквально. Во время рабочего дня ухожу из кабинета на какую-нибудь из своих излюбленных полян, ложусь там на пол, на спину, руки раскидываю крестом, и вместо корабельных сосен, смотрю на стеллажи с книгами, которые растут надо мной. Это самый лучший вид релаксации. Так я когда-то расслаблялся на Карельском перешейке, откуда я родом. Только там ложился не на пол, а в траву. Но тишина и одиночество были такими же. Что касается «шумной толпы» и «одиночной камеры», этих полюсов жизни, то в моем существовании нет ни того, ни другого (и вообще я думаю, что «шумная толпа» и «одиночная камера» — это, на самом деле, одно и то же). Есть всего несколько человек, которые знают, чем я занимаюсь «в свободное время». Коллеги знают, что в русских стихах они не разбираются, поэтому никто меня о них не спрашивает (некоторые одалживают домой мои книги, которые есть в фонде, я узнал об этом совершенно случайно). Но свое частное мнение, особенно по эстетическим вопросам, стараются не высказывать. Это меня вполне устраивает, и это и есть моя «двойная жизнь». Что касается «одиночной камеры», то ведь можно и иначе сказать — монашеская келья, скит, уединение… Искусство только в том, чтобы из этого уединения все и всех видеть и слышать, а не вариться в собственном соку, чтобы, несмотря на это уединение, жить полноценной, динамичной, рисковой жизнью… До сих пор все это мне удавалось. А как — пока не скажу.
Сергей Магид
восьмистишия 14-го года
1.
САД САН-ГАЛЛИ, ЛЕНИНГРАД, 1950
не получается сказать ни то, ни это,
в воронку времени винтом уходит лето,
Лукреций Кар природу всех вещей
познал, а я — познаньем все нищей
и истин азбучных уже не понимаю,
и там, где все иначе, — там стою,
и листья падают на голову мою
в Сан-Галлевском саду, где я играю
*
2.
не говори остолопу, что он остолоп,
каждый живой да и мертвый, считай, микроскоп,
глазом к которому Кто-то усердно прильнул,
севши на облако как на беременный стул,
Сам изучая Себя в миллионах судеб,
одновременно и всюду присутствуя из-под очков,
распределяя в обед бесконечно пять рыб, недоеденный хлеб
и Набокову бабочек для его плотоядных сачков
*
3.
жизнь человека ничего не стоит
в эпоху боевого топора,
отдельный разум — смертная дыра
под домом вечности, который племя строит,
креме́нь о камень, камень о креме́нь, —
растет и зреет чудо коллектива,
как одиночеству души альтернатива
для всех, кому не лень
*
4.
ЛУГАНДА I
обрывки тел — космическая пыль
последних мигов жизни, первых — смерти,
из ниоткуда валятся в ковыль
в насквозь дырявом воздуха конверте,
как неподписанные письма тут и там
подсолнухам, воронам, проводам,
о чем? — о том, что человек, — он! в Бога дверь! —
есть зверь
в память 298, погибших в небе
*
5.
ПОТОМ НА РАБОТУ
трамвай невнятен как погода,
он то ли едет, то ли нет,
висит потусторонний свет
на площадке возле входа,
влажно, липко и тепло,
в вялом теле нет движенья,
мертвых рук прикосновенье
всем нам на́ плечи легло
*
6.
ЗЕМЛЯ КАФКИ
смотри, вот параллелепипед, а в нем квадрат, в квадрате круг,
а в круге дремлет треугольник без ног, без рук,
а в треугольнике спит конус, а в конусе храпит труба,
не зная, не подозревая, что в ней, во сне, идет борьба
добра со злом, отчаянья с верой, — а вот уже наоборот:
стоит труба и бодрый конус сидит на ней, а у ворот
безногий пляшет треугольник, и катит круг за кругом, выпит,
сквозь проходную, а квадрат глядит в окно и видит — ад? — нет,
просто параллелепипед
*
7.
война идет везде, на юге, на востоке,
война идет в тебе, в тебе ее истоки,
к кому от них бежать? и вылезя наружу
и континент сменив, сменяешь только сушу
на сушу, где твой ум, один в своей пустыне,
начнет носить песок к какой-нибудь святыне,
и вновь не будет времени и сил
понять, зачем носил
*
8.
есть ряд возможностей: петля? — неэстетична.
отрава — мелодраматична.
стволом в висок? — жаль мыслей и мозгов.
рябь на воде — для дур и моряков.
а прыгнуть со скалы? — полет и пуст и долог,
и сесть на шприц нельзя, — боюсь иголок.
но выход есть: в толпе, идя дорожкой сада,
напасть на палача. — он сделает как надо
*
9.
ЛУГАНДА II
кого утешит дождь, кого трава,
гриба в лихой панаме голова,
закат сиреневый, пять бревен у реки,
двух берегов родные огоньки,
ну а кого — железный автомат
и гибель, как мужской аттракцион,
в котором оба берега горят
святым огнем
*
10.
ЛУГАНДА III
из-за кустов является сатир,
сентиментален, скорбен, говорлив,
ПЗРК в руках, и литр в разлив
он принял только что, дабы улучшить мир, —
и он его улучшит, зуб даю,
мы все почувствуем земной планеты сдвиг
и, как Христос сказал в последний миг, —
«сегодня же окажемся в раю» 1
*
11.
мне снился сон, что я андроид,
что мир держать устали плечи,
что Пушкин как чужой негроид
был выкинут из русской речи, —
но куст смородины все так же
плетет с крыжовником амуры,
и ниточки паучьей пряжи
скрепляют образы Натуры…
*
12.
страна сначала кажется чужой,
потом к ней постепенно привыкаешь,
потом живешь с людьми и понимаешь,
что это не она, а ты — не свой.
тогда уходишь по ее дорогам
в ее нутро, в рассветный белый дым,
себя в безлюдье чувствуя своим
ее оленям и единорогам
*
13.
у разных родин — множество имен,
но есть одна без имени, она
не этой почвой глинистой полна,
а зыбким светом будущих времен, —
я их творю бессонно по ночам,
как дух над бездной наблюдая плоть
еще пустой земли, психо-врачам
спокойно говоря, что я — Господь
*
14.
ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
горы эти ужасны, выветрены и стерты,
грифов, химер, птеродактилей морды, орды,
нет в них романтики, только базука на гребне
ждет, чтоб размазать тебя на полуденном щебне,
газик проскочит, за ним прогрохочет лендровер,
два «калаша», РПГ, нечитаемый номер, —
выкинут тело в Инферно, а там — Ленинград и опять
вечно тобой недовольна красавица-мать
*
15.
Преображение — через девять дней.
земля подо мной, — значит я на ней,
а не наоборот, как водится у нас.
Бог спас.
во всем, что делал я, меня Он проверял,
щербатым долотом мне раны ковырял,
об ощущениях — велел писать в тетрадь.
кайф, благодать
*
16.
ЛУГАНДА IV
Преображение — через пять суток.
похолодало. кончается лето.
до́ма война. чем ответить на это,
я не знаю. по-прежнему жуток
август четырнадцатого года.
дети падают с небосвода.
Самсонов напрасно стреляться ходил в буерак2, —
слезинка ребенка давно затопила овраг
*
17.
ночь прожить, не поле перейти
минное, а хуже. начерти
стрелочку на карте на восток,
где я был когда-то одинок, —
там, на том же месте, тот же дом,
в коридоре шкаф у двери, в нем
за Толстым все так же, Пушкина тесня,
браунинг отцовский спрятан от меня
*
18.
Преображение — через две ночи.
слушать меня не хочет
зренье, выскальзывая из рук,
и неточен звук.
ночью открыл Француза, — жив, егоза!
сверчок3, с фрейлинами коза
в огороде, ходячий рэп! —
вижу его. значит еще не слеп
*
19.
август мягок. страна убога. аэропорт закрыт.
легкий ветер. горячий лоб. шевеленье губ.
небо в грязном белье и простыня висит
серой рванью на кольях труб,
потом еще речка или канал, в общем вода,
фиолетово-желтый блеск, не вода, а нефть,
а чуть дальше от пирса — свинец, целлофан, слюда.
в деталях, вроде бы, жизнь. а в целом — смерть
*
20.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ, 19 АВГУСТА
преобразился вот. а вознесенья нет,
лишь переход с утра в иное состоянье,
в чужое, неудобное сознанье,
где есть на все ответ,
где есть на все рецепт — Господства, Власти, Силы4,
а там, внизу, — земная тишина,
крапива у заброшенной могилы,
да жизни — чья? — да так, ничья вина
*
21.
скажи дождю спасибо, что идет,
трамваю, что еще стоит и ждет
тебя на кольцевой и что потом,
пустой, еще везет тебя и в нем
ты можешь думать, сидя у окна,
о женщине, которая одна
живая здесь с тобой в дожде, во мгле,
на остывающей, уже ничьей земле
*
22.
das gedicht ist ein gebet5.
свет в окне горел, теперь уж нет.
дождь и дерево. здесь были ты и я.
в горле яблоко застряло у меня.
ты велела через нос дышать,
ничего не ждать и не решать.
ночь дождем полна, а так — пуста.
жизнь моя теперь совсем проста
*
23.
а тебя все нет и нет,
мне трава растет в ответ,
листьев желтых крутит жесть
осень, каждый — это весть
о тебе и слов обвал,
я от них уже устал,
стал — молчанья господин
и в молчании — один
*
24.
я должен рассказать о том, что сплю,
что рифму детскую «люблю»
выбалтываю в сон, что я боюсь,
естественно, что я сейчас проснусь
среди тобою принесенных слив
в саду, где яблоко и осени разлив,
и в мужество несчастная игра, —
и нет тебя, как не было вчера
*
25.
«ты зарос, как старый сад»,
мне сказала в понедельник
и поставила отдельно,
как коло́дези стоят, —
и теперь черпает воду,
здесь, где высохла земля.
бесполезен я народу,
но полезен Музе я
*
26.
дай мне губы. — не дает. мучит мукой ежедневной
подбородка поворот, профиль, в общем-то надменный,
да все тот же старый двор, где опять я ждать поставлен
и в духовности оставлен, остального жадный вор, —
да к тому знакомый хлам — жить неясное желанье с нежеланьем пополам,
бытия тот угол темный,
где я вновь фрагмент условный, мудрых женщин друг духовный,
не допущенный к телам
*
27.
красота ужасна и страшна,
без бутылки белого вина
на нее смотреть я не могу,
красоты не пожелаю и врагу.
но всегда красив нормальный враг,
вот стоит и стережет овраг,
где на дне мой брат стоит и ждет
выстрела в затылок. он урод
*
28.
сердечный мускул твой, скажут, банально увяз в известке,
она ему, — что логично, — лепит тромбоз в аорту,
пробка на физиологическом перекрестке,
красный с зеленым светят друг другу в морду,
путают очередность, терзают севший мобильник
клиента, который вот-вот станет частью дхармы,
наблюдая рассвет, чувствуя, как будильник
зовет — сваливать с этой кармы.
*
29.
ты волк, сказала, потому и одинок.
ты мне разрушил мир, ты диверсант.
ты здесь никчемен как испорченный звонок
и всем чужой как вражеский десант.
поэт терпим людьми, когда он мертв,
тогда с ним можно шить любви узор,
а жив пока, он глух и слеп и черств,
и жизнь крадет у нас — в свой разговор
*
30.
НАИВНЫЙ
когда в астрологическую яму падал,
Господь уж посылал кого-нибудь всегда, то ангела, а то змею-иглу, —
поговорить. и ох, как было надо
поговорить, — чтоб тварь безликую не замечать в углу.
ну а теперь нет надобности ждать кого-то и кого-то слушать.
херувима с гадюкой в три шеи гоню от крыльца.
осторожно глаза открываю, чтобы светом зрачки не нарушить,
чтобы сам увидал эту вечную тварь без лица
*
31.
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь — за твою рабу…
В Петербурге жить — словно спать в гробу.
О.М.
январь 1931
Ленинград
муторно в сердце, длинная ночь впереди, —
снова не спать, пытаться вздохнуть, имена
вспоминать и цепляться за них, и никого не найти,
только звенит и долдонит в ухе оглохшем струна
тишины, глотающей ночь, а в пражском гробу,
что в петербургском лежать, разницы нету, и зря
ангел слепой на востоке все ищет Господню трубу…
в зареве взрывов неслышных гибнет и гибнет заря
*
32.
ночью было полнолуние.
у соседей вурдалак
выл. в стекле дрожал безумия
дребезг. в комнате дурак
не глядел на этот свет в окне,
звал любовь свою да крючился
до утра. а все же не
свурдалачился. — отмучился
*
33.
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ПРАГА, 2014
обнять за острое плечо да в пальцах перебрать косую прядку, —
и мне уже как в школе горячо, когда стихов уволокли тетрадку, а я искал,
но — «холодно», еще
в два раза холодней и — антарктида.
так резко отодвинуто плечо, так доводов сплошна самозащита,
словно напалмом я разжечь хочу
нетянущий костер, что здесь дымится
в сухой траве, — а я лишь по плечу хочу тебя погладить и проститься
24 июля – 28 ноября 2014 г.
Прага
1 Евангелие от Луки 23, 43
2 имеется в виду генерал А.В. Самсонов, командующий 2-й армией во время Первой мировой войны; покончил с собой 30 августа (н.ст.) 1914 г. после поражения при Танненберге в Восточной Пруссии
3Француз, Егоза, Сверчок — прозвища и автохарактеристики Пушкина
4 Господства, Власти, Силы — чины ангельской иерархии в Христианстве, составляющие гармоническое единство ангельского мира
5 Das Gedicht ist ein Gebet (нем.) — стихотворение — это молитва