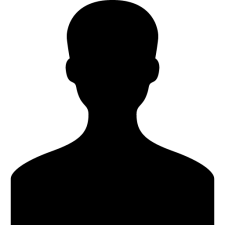От академической конференцию отличал независимый и творческий характер. Она была организована не титулами, а читающими интеллигентами. В их числе семья Бородиных — Сергей и Светлана — слушатели питерских Набоковских чтений и спонсоры сборника публикаций, общество «Русская традиция» как организатор и Славянская библиотека как дом и кров. Четыре доклада диссонировали разнообразием тем, как четыре стороны света, скрепляясь магнитом, который выдержит большую широту интересов — Набоков. Встреча дала ощущение причастности и выход культурным и светским проектам. Верится в неисчерпанность потенциала «Пражской ветви».
Директор Санкт-Петербургского музея В. В. Набокова Татьяна Пономарева поблагодарила общество «Русская традиция» не только формально за организацию конференции, но и за линию издаваемого ей журнала и провела интересные исторические и современные параллели.
«До этого я была знакома с журналом только в Интернете; когда я впервые его увидела в бумажном виде, он меня потряс, потому что и по содержанию, и по исполнению это журнал на высоком уровне. Таких журналов сейчас очень мало. Должна сказать, что, например, в огромном городе, культурной столице Санкт-Петербурге сейчас нет журнала, который выходил бы с такой последовательностью и точной периодичностью. Посмотрев номера, я увидела, что почти в каждом есть какая-то связь с музеем Набокова в Петербурге или с его семьей.
Например, недавно я прочитала статью о графине Софье Владимировне Паниной. Там просто постоянные пересечения, потому что она недолго жила в доме на Большой Морской, 43, до того как там поселились Набоковы. Потом много лет Панина была соратником Владимира Дмитриевича Набокова в его политической деятельности: она не была формально членом кадетской партии, гораздо позже в нее вступила, но всегда поддерживала все, что делало руководство этой партии. Поэтому она была одним из активнейших кадетов, даже не будучи членом партии. Размах ее благотворительной деятельности был огромен. До сих пор в Петербурге существует Народный дом графини Паниной.
В одном из номеров есть большая статья о Сергее Чахотине — ученом-биологе. Чахотин с нашим домом непосредственно не связан, но скоро у нас откроется выставка его брата — поэта и художника Степана Чахотина, который погиб очень рано, в 1930-м году — был одной из первых жертв сталинской диктатуры, но он успел довольно много сделать. Хотя он не печатался и не выставлялся, но стихи и рисунки сохранились в семейном архиве, который сейчас находится у его племянника — сына Сергея Чахотина Петра Чахотина, с которым мы хорошо знакомы. И для меня это еще одна неожиданная параллель с журналом.
Музей находится в Доме Набокова и занимает первый этаж особняка, который принадлежал Набоковым. Здесь писатель Владимир Набоков родился в 1899 году, отсюда семья уехала в 1917-м. Никто, конечно, не ожидал, что они не смогут вернуться. Они уехали в ноябре, сразу после переворота, потому что оставаться в городе было уже очень опасно, тем более что в семье были маленькие дети. Они решили уехать в Крым по предложению Софьи Владимировны Паниной и там собирались провести зиму. А вернуться, когда будет теплее и когда страсти в столице улягутся.
Владимир Дмитриевич уехал немного позже, потому что он, как и все руководители кадетской партии, надеялся, что дойдет дело до Учредительного собрания. Он был одним из 17 представителей, избранных в Учредительное собрание от кадетской партии, и он еще надеялся, что оно состоится. Но накануне Учредительного собрания кадеты были объявлены декретом вне закона и произошли аресты на квартире С. В. Паниной — этот эпизод описан во многих мемуарах. Владимир Дмитриевич не попал в засаду только потому, что в этот момент он был выпущен из короткого заключения — несколько дней его держали в Смольном. Узнав о декрете, по которому кадеты являются врагами народа, возвращаться домой он не стал и сразу поехал на вокзал.
Как и у большинства таких семей, ценности, библиотека, коллекция картин и рисунков, графики — все осталось в доме. Как и все остальное городское имущество, дом был национализирован декретом советской власти. Художественные ценности частично были вывезены и сохранены, но только частично — большая часть из них была расхищена. Только некоторые остатки сохранились: часть попала в музейный фонд, где была составлена опись, затем эти предметы были направлены в разные библиотеки, музеи, архивы России, где они сейчас и находятся. Часть из них хранится в Эрмитаже, они не выставляются, довольно большая часть коллекции графики находится в Русском музее и очень редко экспонируется. В частности, я знаю, что всего два раза выставлялся портрет Елены Ивановны Набоковой работы Леона Бакста. Остальные работы не были представлены ни на каких выставках. Часть книг удалось обнаружить в Российской национальной библиотеке. Также мы их находим и в других региональных музеях и библиотеках — это требует большого труда, очень сложно все найти, этот процесс идет очень медленно.
С 1918 года дом использовался для государственных нужд: там был и военный комиссариат, и другие организации, мало что в доме осталось из предметов мебели. Потом дому повезло: в 1921 году его передали под офис датской компании „Северное телеграфное агентство“. Компания еще при Марии Федоровне получила большой контракт на строительство телеграфа из Европы в Японию. Они сумели договориться и с большевиками, поэтому в 1921 году им отдали этот дом, что было большим счастьем, потому что датчане к нему относились очень бережно — ничего не портили, не ломали, ничего оттуда не увозили. Так дом существовал до 1935 года под покровительством датчан, которые там жили и работали. Потом компания уже не смогла функционировать в СССР, их вынудили свернуть свою деятельность, и дом стал использоваться для самых разных организаций, вплоть до начала 1990-х годов, когда там стал образовываться музей, он рос и стал занимать весь первый этаж.
Семья Набоковых — это единая культурная сфера, рассказ о которой надо начинать с фигуры Владимира Дмитриевича Набокова. Внимания заслуживают его статьи, избранные выйдут в скором времени в Петербурге: воспоминания о Временном правительстве, его статьи под общим названием „Из воюющей Англии“ — о его поездке в Англию в 1916 году во время войны, и „Тюремный досуг“ — воспоминания о трехмесячном заключении в тюрьме „Кресты“ в Петербурге.
Набоковы не планировали ехать в Прагу, по формальным критериям они не очень подходили для участия в „Русской акции“. Поначалу у них были совершенно другие планы. Владимир Дмитриевич был одним из министров второго Крымского краевого правительства (позднее он уже к Врангелю не возвращался, в отличие от некоторых других кадетов). Это была короткая возможность для кадетов показать, что они могут управлять пусть небольшой, но самостоятельной частью России. Обсуждался вопрос о его входе во Временное правительство как министра юстиции, но этого не случилось. Министром юстиции он так и не стал, хотя вырос в семье министра юстиции Российской империи. Адвокатом он не работал, но очень много писал по теории юриспруденции, считался одним из лучших специалистов по теории уголовного права, был членом редакции журнала „Право“.
Когда большевики снова заняли Крым, всем пришлось эвакуироваться. Владимир Дмитриевич направился в Англию, где они с Милюковым планировали издавать журнал на английском языке и способствовать перемене позиции английского правительства, чтобы оно не переставало поддерживать борьбу с большевиками. Из этого, к сожалению, ничего не получилось: реакция оказалась противоположной по многим причинам — как политическим, так и коммерческим — и довольно скоро, в 1921 году, после года жизни в Лондоне, Владимир Дмитриевич с семьей переехал в Берлин. Здесь, в Берлине, развернулась, к сожалению, оказавшаяся последней фаза его активной журналистской и политической деятельности. Он стал одним из редакторов ежедневной газеты „Руль“, которая выходила как продолжение ежедневной кадетской газеты „Речь“, влиятельнейшего либерального российского издания; ее можно сравнить разве что с американской „Нью-Йорк Таймс“ — ее огромный тираж расходился по всей России.
Он стал писать заметки, которые были опубликованы в Архиве русской революции, воспоминания о Временном правительстве. Они представляют особую ценность, поскольку написаны спустя очень небольшой срок после самих событий. Ведь чем больше проходит времени, тем менее точными оказываются описания и тем больше в них разных интерпретаций. Его воспоминания написаны как отчет, они очень интересны, там много фактического материала.
Затем Владимир Дмитриевич стал просто писать на разные темы, поскольку тогда русская книгоиздательская и журнальная деятельность в Берлине процветала, тиражи были очень большие, она имела коммерческий успех — все раскупалось. Поэтому многие авторы просто на эти деньги жили, в том числе и Владимир Дмитриевич и его семья, потому что никаких других доходов у них не было, из России они ничего не получали и вывезти ничего не смогли.
У него все шло успешно. Честностью и склонностью к объединению, умением видеть ситуацию целиком, часто идя на необходимые компромиссы, он старался удержать кадетскую партию, которая разваливалась на две части из-за Милюкова: его позиция сильно поменялась в эти годы, особенно после поражения Врангеля и исхода из Крыма. Владимир Дмитриевич придерживался прежних взглядов и старался всех объединить. Поэтому был задуман приезд Милюкова в Берлин, выступление с лекцией. До этого Владимир Дмитриевич опубликовал статью-обращение с призывом к примирению. Кадетская партия по-прежнему оставалась очень многочисленной в эмиграции и 28 марта 1922 года собрала на лекцию Милюкова большую аудиторию. Конечно, никто не подозревал, что, узнав о ней из газет, туда собираются приехать будущие убийцы — два монархиста, бывшие офицеры, крайне правые маргиналы, которые издавали в Мюнхене газету „Луч света“. Они решили убить Милюкова, обвинив его в том, что его выступление в Думе положило начало заговору, приведшему к отречению Николая II.
Милюков был их целью. Набоков их не интересовал совершенно. Во время перерыва в лекции первый убийца выбежал с криком (что он кричал — свидетели говорят разное: была такая паника, что не запомнили), бросился стрелять в Милюкова, не попал, промахнулся. Первой реакцией большинства людей было спрятаться под столы и стулья. Только некоторые бросились на помощь, и Набоков был впереди — он выбил у стрелявшего пистолет, заломил ему руки назад, но был убит тремя выстрелами в спину вторым террористом.
После потери кормильца и переезда в Прагу, жизнь Набоковых была довольно сложной. Об этом можно узнать из писем Набокова, которые он писал своей невесте, а потом жене практически каждый день. Они сейчас опубликованы только на английском, по-русски пока недоступны. Читать их очень увлекательно, потому что даже письма Набоков писал своим — набоковским — языком. По этой переписке можно наблюдать, как менялась жизнь семьи: они постепенно обустраивались, быт улучшался. Они приехали зимой, зимний город произвел на Набокова не очень радостное впечатление, первая квартира их здесь была неудачной — холодной, плохо топилась, а река Влтава замерзала — и все это выглядело уныло.
Но постепенно жизнь налаживалась. Вторая квартира, которую сняла Елена Ивановна, была лучше: там были четыре комнаты, две из которых она сдавала. И первыми жильцами стала семья Ипатьевых, владельцев дома в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. Набоков упоминает бытовые подробности их общения. Он называет имена многих людей, с которыми общалась семья Набоковых: Карел Крамарж и его супруга Надежда Николаевна (у них в гостях Набоковы бывали часто), Софья Владимировна Панина, Петр Семенович Бобровский, коллега по Крымскому краевому правительству. Упоминается и Николай Алексеевич Раевский, с которым Набоков познакомился и сблизился на почве энтомологии: Николай Раевский показывал ему Пражский зоологический музей.
Владимир Набоков уехал из Берлина, чтобы выяснить, можно ли прожить в Париже на литературные гонорары. Он уже считался первым писателем русской эмиграции этого поколения (Бунин представлял старшее поколение). Но прожить на эти заработки было довольно сложно, поэтому Набоков рассматривал возможность стать французским писателем — французский был одним из его трех языков, наряду с английским и немецким. Впрочем, за годы жизни в Германии и во Франции он практически не пользовался, ни одним из них. В Германии он ни с кем не общался по-немецки, кроме хозяев квартир и продавцов в магазинах. Набоков, конечно, знал немецкий, но ощутимо хуже английского и французского. Он очень мало читал по-немецки, старался оберегать свой русский язык от влияния. Вся переписка была по-русски, очень редкие письма его литературным агентам по-английски и по-французски, а все общение с друзьями и родственниками шло только по-русски».
Внук Ольги Набоковой Владимир Петкевич, математик-лексикограф, не всегда был в эпицентре набоковской семьи (после разрыва его матери с Ростиславом Набоковым его воспитывал отчим), но сохранил интересные воспоминания (в т. ч. парадоксальные: в юности он ничего не знал о славе Набокова-писателя) и фотографии с бабушкой. В последнее время он занимается восстановлением семейной памяти и участвует в набоковских конференциях. Свой доклад он назвал «Пражские потомки Набоковых».
«Европейская история семьи Набоковых начинается в марте 1922 года в Берлине, где был убит монархистом мой прадедушка Владимир Дмитриевич Набоков. В декабре 1923-го семья переехала в Чехословакию.
С точки зрения последующих 16 лет, это решение можно назвать удачным. В межвоенный период Чехословакия демонстрировала крайне благосклонное отношение к эмигрантам разных национальностей, прибывавшим из России. Ни одна другая страна в мире, кажется, после фактически проигранной Гражданской войны не обращалась с ними лучше, чем Чехословакия. Однако, с точки зрения долгосрочных перспектив, это решение не было благоразумным — ну кто же мог тогда знать, что Мюнхенское соглашение фактически уничтожит Чехословацкую республику и отнимет свободу более чем на два поколения вперед — с 1938-го по 1989 год.
Когда Набоковы переезжали в Прагу, в стране уже родилась очень важная „Русская акция“, объявленная чехословацким правительством в июле 1921 года. Цели этой акции были следующими: поддержка преимущественно демократических элементов и слоев, прибывающих из России, поддержка академической и исследовательской деятельности, преподавателей, впоследствии читавших лекции в Пражских университетах, оказание помощи эмигрантам с востока — русским, украинцам, людям с Кавказа, белорусам — и привлечение в Чехословакию дворян, богатых предпринимателей, интеллигенции. То есть целью было подготовить для будущей России образованных людей, которые могли бы управлять страной после того, как она восстановит демократический строй. Как предполагалось, это должно произойти вскоре после непродолжительного периода Гражданской войны.
Здесь имели значение и интересы чехословацкой промышленности и торговли на российском рынке в противовес немецким конкурентам. Именно потому Чехословакия оказывала щедрую материальную поддержку образованию русских и украинских студентов. Отношение чехословацкого правительства к эмигрантам славянского происхождения было крайне положительным. Славянская взаимовыручка, межнациональная дружба и помощь были очевидными — русских любили, любили их культуру»…
Философский трактат «И со мной моя тайна всечасно» представил публике историк литературы, радиожурналист Иван Толстой. Увлекательная гипотеза — возможно, пролог будущей книги Толстого, но космос смыслов пленил даже в рамках доклада.
«Что все это значит? Какая тайна? Как понимать слова: „Я без тела разросся, без отзвука жив“? Что же открылось Набокову? Чем себя превозмочь? О каком счастье идет речь? Стихотворение заканчивается такими строчками:
Но однажды, пласты разуменья дробя,
Углубляясь в свое ключевое,
Я увидел, как в зеркале, мир и себя,
И другое, другое, другое…
Стихи эти о счастье-тайне — самое энигматичное из того, что написано Набоковым. Разве что посоревноваться в загадочности может фраза из романа „Приглашение на казнь“ — псевдоитальянская фраза mali etromo tomesti. Многие гадали: что бы это значило? Ни в одном европейском языке таких слов нет. Американский исследователь и переводчик Геннадий Барабтарло предложил остроумную расшифровку этого высказывания: это анаграмма русской фразы „Смерть мила. Это тайна“. И признал, что эта русская фраза сама по себе таинственна.
Мой тезис, который я хочу предложить вашему вниманию: эта набоковская фраза перестает быть таинственной, если включить ее в художественную систему писателя, в его философскую аксиологию, то есть в смысл его человеческого и духовного пути. Это огромная тема, поскольку она трактует набоковский мир в целом.
В 1925 году живший в Берлине Набоков опубликовал рассказ „Письмо в Россию“. При публикации Набоков дал рассказу подзаголовок „Из главы второй романа о счастье“. Не странно ли? Отец убит весной 1922 года. А два с половиной года спустя сын уже счастлив.
Такой роман, однако, никогда не был написан. Некоторые нити замысла перешли в роман „Машенька“ 1926 года. Почему же читатели не получили романа „Счастье“? Может быть, потому что он уж очень открыто, эксплицитно предъявлял замысел? Но нет. Мы видим заглавия других набоковских книг с демонстративно открытым называнием замысла.
Причина, вероятно, в том, что осознание счастья не ограничивалось для него локальным, ситуативным применением к замыслу какой-то одной книги. Счастье оказалось мерой куда большего масштаба. С чем связано набоковское счастье? В чем его природа?
Набоков счастлив постоянно, в то время как русский писатель — человек часто тяжелого характера, особенно на чужбине. Набоков при этом любит полемику, участвует в критических стычках, пишет эпиграммы, питает вкус к литературной мести. Он ведет спор о Пушкине.
Влиятельный Георгий Адамович, человек из совершенно другого лагеря, разворачивал свою литературную паству в сторону пушкинского соперника и антипода Лермонтова. Для незамеченного поколения 30-летних литераторов русской эмиграции, переживших просто читательскую драму разрыва с русской культурой, трагедию потери родины, Пушкин был неуместно благополучен. То ли дело мизантропический недоочарованный Лермонтов, казавшийся единственно приемлемым литературным предком. Недоверие к Пушкину как к носителю несгорающего русского огня Георгий Адамович сильнее всего выразил однажды с помощью высказывания: „Умный человек, хоть и поклонник Пушкина“. В глазах русских монпарнасцев любить Пушкина значило расписаться в литературном дилетантизме, в эстетической неразвитости.
За поруганную честь вступились, и одним из них был Владимир Набоков. „Так уж повелось, — пишет Набоков, — что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда пожалуйста — вы свободны, можете критиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранять при этом и талант свой, и честь“. Эти набоковские слова о Пушкине имеют прямое отношение к осознанию собственного места в литературе, к сущности искусства, к смыслу своего размежевания с русскими писателями — не только с современниками-эмигрантами, но и с классиками»…
Историк эмиграции Анастасия Копршивова была, как всегда, точна в деталях быта межвоенной Праги, и ее доклад «Пражская среда и Набоковы» добавил несколько ярких реалистических штрихов.
«Когда семья Набоковых приехала в Прагу, они оказались там, где все уже было расставлено по своим местам: студенты уже учились, профессора заняли свои места, у всех было свое определенное место в иерархии местного населения. Набоковы приехали немного поздно, все уже было занято. У эмиграции в Праге денег не было — Чехословацкое государство их поддерживало, оно давало им деньги на проживание, но откладывать было не из чего. Пражская эмиграция сделала три жеста: в 1922 году, после убийства Набокова, в Открытом студенческом клубе составили телеграмму с соболезнованием семье. В следующем году было торжественное заседание памяти Набокова, доклад читал юрист Климов. И в следующем году было такое же собрание. Это было все по отношению к отцу. Про какого-то молодого Набокова Прага ничего не знала тогда и, откровенно говоря, им не интересовалась.
Трое детей Набоковых приехали в Прагу, все они поступили здесь учиться: Кирилл в гимназию, девицы — на курсы. Елена единственная успела здесь отучиться в гимназии, поступить в Карлов университет, окончить курс философии, получить докторское звание и прослушать библиотекарские курсы. Ее судьба здесь была связана со Славянской библиотекой — она была библиотекарем все военное время. Есть фотография Елены Набоковой перед дверью этого здания, эта дверь существует и теперь.
Еще эти девицы пели в хоре Архангельского — они были хорошие певицы, обе стали постоянными членами хора, ходили на спевки и на выступления. На групповых фотографиях хора они есть.
Кирилл был членом „Скита поэтов“. Он есть на групповых снимках. Это был проект Альфреда Бема. Молодые люди, которые любят писать стихи, учились там технике стихосложения. Мало кто из них стал настоящим поэтом. Владимир Набоков, читая стихи скитовцев, над ними посмеивался».
Из артефактов своей коллекции Анастасия Васильевна продемонстрировала билет на лекцию Милюкова.
СВЕТЛАНА БОРОДИНА
ФОТО АВТОРА
АДРЕСА НАБОКОВЫХ
На следующей день после конференции Владимир Петкевич провел экскурсию в пражском районе Бубенеч, связанном с Набоковыми, и поделился фотографиями из семейного альбома.
Первым мы посетили Профессорский дом на улице Рузвельтова (Rooseveltova). Прямого отношения к семье Набоковых он, скорее всего, не имеет (нет свидетельств, что кто-то из них посещал церковь), но ключевым в истории русской эмиграцией он является.
Потом остановились у дома на площади Интербригады (Náměstí interbrigady), где жила художница Нора Мусатова, дочь художника Григория Мусатова, которая дружила с Ростиславом (сын Ольги Владимировны Набоковой).
Два одинаковые дома расположены на улице Коулова (Koulova) недалеко от «сталинской башни», как называли в 1950-х годах отель «Дружба» в стиле соцреализм, ныне отель «Интернационал» (Hotel Internacional). Во время своего выступления на конференции Ники (ласковое имя Владимира Петкевича) показал фотографию Ростика (имя в семье Ростислава Петкевича, его отца) на велосипеде на фоне улицы, где стоит этот отель. В одном из них (дальнем от башни), доме №8, на первом этаже в однокомнатной квартире свои последние годы прожила Елена Ивановна Набокова (скончалась 2 мая 1939 года) вместе с «тетиком», Евгенией Константиновной Гофельд, и Ольгой Владимировной, а позднее с ее сыном Ростиславом. Дома были построены в 1933 году и относились к кооперативу Patriotika. Каким образом они попали в этот дом, Ники не знает.
Гофельд умерла в 1957 году, Ростик — в 1960-м, и Ольга Владимировна осталась в квартире одна. Сам Ники жил со своей матерью и отчимом на соседней улице.
С отцом он не виделся (помнит только одну встречу с ним в каком-то кафе или ресторане), но бабушка приходила к ним на ужин по четвергам. Владимир Петкевич вспоминает, что она часто ездила с ним в маленькие селения за Прагу.
«В быту бабушка была абсолютно неприспособленной, никогда сама не готовила. Однажды, когда осталась со мной, еще ребенком, одна, не могла даже подогреть приготовленную еду, чтобы накормить меня. Она была довольно странной, отличалась от других женщин…» — неохотно вспоминает Ники.
О своем родстве с писателем Владимир Петкевич узнал только в зрелом возрасте. В семье об этом не говорили, как не вспоминали о России и о дореволюционном времени. Помнит только, как однажды Ольга Владимировна рассказывала, что в Крыму были очень большие апельсины.
14 января 1977 года Ольга Владимировна перенесла второй инсульт, и ее парализовало. Ее нашла в квартире соседка, которая позже (уже после смерти бабушки) судилась с Ники из-за этой квартиры. Он выиграл этот процесс и с 1978 года жил в этой квартире.
Из предыдущих пражских адресов семьи Владимир Петкевич не знает ни одного, но помнит, что часто повторяли названия Страшнице и Добржиховице (Strašnice a Dobřichоvice). Он хотел бы узнать, где жила семья после переезда в Прагу. Мы решили, что попытаемся получить сведения об этом в архиве, а весной предпримем попытку съездить в Добржиховице.