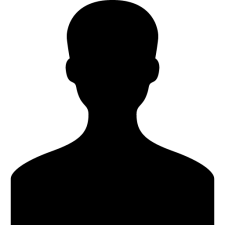Но, что я считаю еще более важным, она пришла к читателю как зрелая личность, как автор, который вернул нам человека, замещенного советской историей и литературой на героическую марионетку. О доброте, самопожертвовании, Боге и человеке она говорит через своих живых персонажей — обычных людей, в чем-то милых, в чем-то жестоких и глупых, проживающих все знакомые нам до слез реалии. Не только в литературе, но и в жизни Улицкая вновь обращает наше внимание на человека. Вот почему она желанный и ценный собеседник.
Мы побывали на встрече с писателем и на следующий день побеседовали с ней в издательстве Paseka.
— Людмила Евгеньевна, мы являемся издательством, специализирующимся на теме первой русской эмиграции, и знаем, как трудно издавать хорошие книги. Не просто обстоит дело и с комплектацией фонда библиотек. К сожалению, даже в Праге в библиотеке подборка книг наполовину сталинского толка — что было на совести поставщика. Могу ли начать с вопроса о вашем проекте «Хорошие книги»?
— Я его довольно давно начала и успешно закончила. Было несколько причин. Во-первых, почти не было денег. Пока у меня были — тратила свои. Потом, в стране, где не хватает денег на лекарства детям, на медицинскую помощь, очень трудно просить деньги на книги. Не умею заниматься брендингом. Кроме того, идиотизм ситуации заключается в том, что надо было второй раз платить налог. Это меня безумно раздражало, и оказалось, что волокита бумажная отнимает очень много времени и сил. Например, я присылаю книги в библиотеку, и вместо того, чтобы проштамповать их и поставить на полку, надо пройти целую процедуру: включения их в фонды и т. д. И все это требует от меня какой-то переписки, я должна посылать какие-то списки. Короче говоря, фонд рухнул благодаря бюрократическим препонам, которые я не смогла преодолеть. Для этого надо было нанимать человека, платить ему зарплату, а при этом нарушается смысл чего бы то ни было, когда ты платишь зарплату, которая превышает стоимость продукта, который ты раздаешь. Поэтому мы просуществовали три-четыре года, и я закрыла эту историю.
— Безумно жалко.
— Жалко, но, с другой стороны, за последние годы закрылось большое количество библиотек в маленьких городах и деревнях, потому что на социальные проекты денег все меньше и меньше. И школы закрывают, и библиотеки закрывают, народ естественно тянется к городам, мы это знаем. Сейчас даже не книжная проблема, сейчас проблема медицинская, потому что закрывают поликлиники в маленьких городах и людям приходится очень далеко ездить; это просто опасно, потому что человек с сердечным приступом не успевает доехать. У нас очень много социальных проблем, на фоне которых мне стало трудно просить деньги. Еще один момент. У меня был замечательный товарищ по этой работе. Это моя подруга Екатерина Юрьевна Гениева, которая этим летом умерла. Она была директором библиотеки иностранной литературы, она была видным лицом в книжном и библиотечном мире, и поэтому нам с ней много чего удавалось сделать. Сейчас ее нет, и это огромная утрата для всех людей, которые связаны с книгой.
— Вопрос, который вчера прозвучал на встрече — вопрос памяти. Те люди, с которыми вы общаетесь — это рафинированные хранители памяти, обычным людям ее просто патологически не хватает. Ваша книга «Поэтка» внесла в это абсолютно новое звучание — Наталья Горбаневская там не герой, не жертва, а человек — необычный, но живой. Когда ее сын Ярослав приехал в Прагу с выставкой памяти Горбаневской (это было как раз 21 августа), он среди других работ выставил портрет бабушки, написанный во время ее первого приезда из Советского союза в Париж. Портрет довольно обычный, в стиле реализм, скажем, но никто не понял значение портрета. Только после вашей книги этот портрет можно рассматривать по деталям и размышлять, как она приехала, как выглядела, почему такое платье, выражение лица. Книга получилась очень важная.
— Это большое счастье, что удалось сделать эту книгу. Когда Наташа умерла, я бросила все свои дела и поняла, что это мой дружеский долг. Эта книжка вышла ровно в годовщину ее смерти, день в день. Это ощущение, когда ветер дует в спину — все шло замечательно, все ловко совпадало, люди вовремя писали письма, все отозвались очень тепло и правильно.
Мы дружили с Наташей Горбаневской больше 50 лет, и только написав эту книгу, я поняла, что это был святой человек. Такой неудобный, такой странный, такой резкий, для дружбы сложный… Я думаю, что была одной из немногих ее подруг, с которыми Наташа никогда не сорилась, потому что она очень была тверда, несговорчива, иногда капризна, очень эгоцентрична, как полагается поэту, с таким, я бы сказала, абсолютным взглядом на вещи. Особенно в молодые годы для нее двух мнений быть не могло — она всегда была права, что рождало некоторые проблемы в общении. И только когда я писала книгу, я поняла, что это все качества праведника, что она прошла этим путем, будучи абсолютно бескорыстна, совершенно щедра душевно, абсолютно честна, ее нельзя было никак развернуть. И, собственно, ее поступок, ее выход на Красную площадь, об этом говорит — на многомиллионный город нашлось семь человек, которые вышли. И они в каком-то смысле совесть нашего поколения. Все мы им благодарны за то, что они взяли на себя это право сказать, прекрасно зная, что будет дальше.
— Три года в психушке — это жестокое наказание за инакомыслие. Следы хорошо видны на фотографии Натальи Горбаневской после психиатрической больницы…
— Было меньше, на самом деле, чем три года. Но это было совершенно адское пребывание, о котором она не любила вспоминать и о котором никогда не говорила. Евгения Семеновна, ее мать, тоже была совершенно необыкновенным человеком.
— Это все есть в вашей книге.
— Да, потомственная мать-одиночка.
— Прочтя эту книгу, я поняла, насколько в Советском союзе понятие мать и бабушка было испорчено. Отношение недоверия к своим детям — это психологический нонсенс.
— Вы знаете, отношение недоверия — это поколенческая черта, потому что сидевшие люди, люди, жившие в таком страхе, очень боялись посвящать своих детей в свою жизнь, в которой было много тяжелого, было много страшного, иногда и много стыдного. Вот я написала об этом книжку. Может, будет переведена на чешский. Я тоже много думала над этим — это и моя семейная история.
— Вчера вы говорили о белых пятнах, которые вы в своей семейной истории восполняете. Вы делаете запросы в архивы? Как это происходит?
— Письма 1911 года — переписка бабушки и дедушки — лежали у меня в доме, я их не вскрывала, потому что просто боялась их читать. И когда наступил 2011-й, я поняла, что уже 100 лет прошло и надо их прочитать, потому что, когда я умру, дети просто выбросят их на помойку. Я, по крайней мере, бабушку знала, а они ее не помнят, для них это чужие люди. Долго вокруг этого крутилась. Была, конечно, в архивах КГБ, посмотрела дело моего деда, тоже было чрезвычайно интересно и страшно. То, чего я больше всего боялась — этого как раз не произошло, дед себя безукоризненно вел на допросах.
— Предательства не было?
— А кто из нас может быть уверен в себе? Иголки нам под ногти не загоняли, мы эти испытания не проходили, поэтому я со страхом отношусь к прошлому, но я не могу осуждать и тех людей. Очень была интересная история с Петером Эстерхази. Эстерхази — замечательный венгерский писатель, один из самых лучших, один из самых знаменитых. Его княжеская семья владела половиной Венгрии, и они были очень богаты. Когда я первый раз приехала в Венгрию, я съела пирожное Эстерхази, пошла в музей и увидела, что половина — коллекции Эстерхази, а вечером мы познакомились с Петером. Тогда еще эта история не произошла с ним. Петр обожал своего отца, отец был европейский аристократ, в советское время невыездной из Венгрии. Но к нему постоянно приезжали родственники со всей Европы, из Австрии, из Англии. Он их возил по имениям, дворцам, замкам, когда-то принадлежавшим этому семейству. И когда отец умер, Петр написал о нем книгу, очень теплую — он очень оригинальный писатель, совсем не прямолинейный, весьма сложный. Прошло совсем немного времени, и кто-то из знакомых сказал: «Хочешь посмотреть дело своего отца в КГБ?». И Петер пошел с интересом. Дело оказалось огромным, и выяснилось, что его отец был осведомителем. Причем это были доносы на родственников, которые приезжали. Это стало для Петера ужасным потрясением. И он написал еще одну книгу — издание второе, дополненное, где он все эти события изложил, включая материалы КГБ. Он не перестал любить отца, но в этой книге столько горечи и столько боли… Вот что такое память, вот что такое белое пятно, когда человек видит, что делал его отец, и несмотря ни на что ему прощает, он входит в его положение, и у них внутреннее примирение все-таки происходит.
— Через признание факта зла и человеческой слабости?
— Это большой писательский и человеческий подвиг. Когда выходит на поверхность и высвечивается прикрытая правда жизни, то, что держится в тени, то это перестает быть болезнью. И на этом опыте другой человек знает, как надо было бы себя вести, а воображение и память о прожитом могут помочь в сегодняшней реальности.
— С такими мыслями должны были бы формироваться новые российские политики. Наверное, это главный вопрос, который я хотела задать — все ли нормально у русских с памятью? Почему после Ельциновского закона о реабилитации жертв репрессий стал возможен современный сталинизм?
— К сожалению, снова закрываются архивы, с грифом на 70 лет. Это, конечно, продолжение той линии взаимоотношений общества и власти, которую заложил Владимир Ильич Ленин: каждый человек должен быть прозрачен, осмотрен со всех сторон, и ничего личного и частного, неподвластного государству, в человеке не должно быть. Это происходило с самого образования советского государства, такая традиция до сих пор длится. Сейчас идет возрождение идей сталинского периода и попытка восстановить имя Сталина как вождя, победителя и человека, который для страны много сделал хорошего.
— Если бы каждый написал книгу «Члены моей семьи в ГУЛАГе» («Наши в ГУЛАГе») и повторял бы ее как отче наш, может быть, не отмахнулись бы от прошлого? Или русские предпочитают не учиться на своем опыте?
— У меня есть очень хорошая история. Моя подруга работает в Мемориале. Организация Мемориал сегодня признана «иностранным агентом», с большим трудом им удалось отстоять свое право на существование. В список нежелательных организаций, кроме Мемориала, попали все общественные организации, которые работают именно для связи общества и государства — они признаны нежелательными. Как понимать слово «нежелательный» (как нежелательный гость?) — я не понимаю. Короче говоря, организация Мемориал постоянно подвергается проверкам, финансовым, таким, сяким, не проходит полугода, чтобы какой-то проверки там не устраивали. Лет пять назад пришли сразу две проверки. Одна была от ФСБ — КГБ теперешнее, а другая финансовая. И вот две комиссии работают день, работают другой, потом уже люди в обед вместе пьют чай, потому что живые люди. И в какой-то момент парень, который пришел с проверкой, говорит моей подруге: «Ну что вы все время с этими тюрьмами, с этими лагерями? Вот у меня, например, в семье никто не сидел, все было нормально, а вас послушать — можно считать что вообще все сидели». Подруга моя его спросила, как звали его отца, и когда он пришел в следующий раз, она ему показала дело его деда, который был расстрелян, о чем этот парень не знал. Разговор был замечательный. Она говорит: а такой-то твой дед? — Да. — А что ты о нем знаешь? — Да ничего, отец ничего про него никогда не говорил. — А ты знаешь, что он был расстрелян?.. И парень был совершенно потрясен. Прошло несколько месяцев, как проверка закончилась, он к ним зашел и сказал, что он поменял работу. Вот эта история, которую я очень люблю, она подлинная и она очень живая.
Людям, которые чувствуют свою непричастность к этим гонениям, кажется, что сталинские репрессии — это какая-то мелкая заковырка на триумфальном пути советской власти. Репрессии, на самом деле, не от Сталина начались, они начались от Ленина. Первые постановления Ленина коснулись священников, которых надо было ликвидировать. Это написано по-русски, вполне внятным текстом — «убивать». Начиная от царской семьи, аристократов и богатых людей этот каток прошелся по всем слоям населения без исключения. Каждый год, в октябре, в день памяти жертв политических репрессий в СССР, я прихожу читать списки расстрелянных возле Соловецкого камня в сквере Политехнического музея (напротив здания бывшего НКВД). Это списки расстрелянных только в городе Москве. И вот уже 12 лет, а списки еще не прочитаны. Причем раньше у меня было впечатление, что репрессии касались образованного сословия, интеллигенции, евреев, всяких нежелательных лиц, но это совершеннейшая иллюзия, потому что когда ты читаешь этот список, то ты видишь: уборщица, помощник повара, главный инженер завода, кухарка, учительница музыки — то есть абсолютно все слои. Ты понимаешь: под гребенку попадали все.
Чего бы меньше всего хотелось — чтобы мы вернулись в эту реальность.
— Убийство журналистов — это ли не примета нашего времени?
— Немцовская история… Все это, на самом деле, небольшой, закамуфлированный, но все-таки террор. Пока что он не набрал большого масштаба, но эти события, единичные пока, очень настораживают.
— Поэтому, если можно, следующий вопрос — что стало с диссидентами? Почему они, как Гавел, не стали у руля страны в 90-е? И вообще, где прогрессивные антисоветские силы теперь? Почему ушел в песок этот антисоветский запал?
— Эта фраза, которую я не устаю повторять — у нас нет Гавела. Гавела у нас не произошло, не случилось. Может быть, его успевали убить до того, как он появлялся, этот потенциальный гипотетический Гавел в России. Но я думаю, что здесь не одна причина, а их несколько. Был у меня знакомый, который в 90-м году попал в московское правительство. Это было новое правительство, которое собиралось как-то по-новому вести московские дела. Через год этот человек, по образованию физик, из старой машины «жигули» пересел в иномарку, а еще через год он был уже богатым человеком, т. к. с каждой жареной курицы, которых в Москве продавали на каждом углу, он получал свои 20 копеек. Денежного соблазна, искушения многие не вынесли. Вся приватизация прошла под этим знаком, и мне не нравилась спешка, с которой Егор Гайдар (в общем, очень яркий и талантливый человек) это делал. Я никакого отношения к экономике не имею, но эти реформы, которые были задуманы, возможно, были очень хороши на бумаге, но на практике они совершенно не сработали. Кроме того, я не думаю, что очень большое количество диссидентов вошли тогда в управление государством.
— Почему они не пришли в политику?
— Есть тут момент очень важный, для меня он принципиальный. Когда все мои друзья побежали в 90-м году радоваться тому, что советская власть пала, и радоваться Ельцину, я понимала, что Борис Николаевич Ельцин — это обкомовский работник, он из породы коммунистической. И, к сожалению, я оказалась права. Хотя я не политик, ничего в этом не понимаю, но у меня было ощущение, что пока коммунистическая партия не будет полностью раскрыта, проанализирована и пока не произойдет денацификация, как в Германии, когда рядовых членов нацистской партии не сажали, не расстреливали, не подвергали репрессиям, но они не имели права занимать государственных должностей — ничего не получится. Они могли работать кем угодно, они могли заниматься даже бизнесом, но вот только править государством они не могли. И это то, чего я ждала. Если бы это произошло, я бы сказала — ну вот, это моя власть. И я думаю, что какую-то часть диссидентов тоже остановило от участия в этих структурах именно то, что коммунистическая партия оставалась. Советская власть упала сама, нельзя сказать, чтобы ее кто-то свалил, она упала в силу того, что изжила себя. Это был экономический провал: было совершенно ясно, что страна разорена и денег в стране нет.
— Это не была революция?
— Конечно, это не была революция. Там был момент дворцового переворота. Надо сказать, что революции я тоже очень боюсь, я бы не хотела, чтобы в стране была революция. Трансформация власти в сегодняшних очень жестких условиях просто невозможна, потому что идет телевизионная промывка мозгов. Ведь 86 процентов населения поддерживают сегодняшнюю власть и ее политику, политику, по-моему, самоубийственную, для страны она несет гибель, разорение и большие беды, не говоря уже о международной изоляции, которую мы сегодня имеем.
— А Болотная не была предвестником революции?
— Болотную, по-видимому, власти испугались. У меня было только одно заявление, когда я выступала на Болотной площади, я сказала, что очень рада, если в этой толпе наш будущий президент. Но пока, видимо, этот президент лежит в коляске. Во всяком случае, то, что мы сейчас имеем, мне очень сильно не нравится, надежд на быстрые и скорые перемены я не вижу, потому что эта власть, как любая, хочет быть несменяемой и вечной. Только очень прописанные твердые процедуры дают основания для перемен власти, именно этот механизм у нас не работает. Может быть, он заработает когда-нибудь. У нас скоро будут выборы в Думу. Уровень сегодняшний думский чрезвычайно низкий, это люди, которых тяжело слушать, они плохо говорят, они плохо думают, они плохо образованы. Наверно, там есть несколько человек, с которыми можно разговаривать, но в большинстве своем это совершенно дикие люди, судя по их выступлениям и судя по тем законам, которые они принимают. Закон Димы Яковлева и многочисленные последующие документы говорят о бесконечно низком нравственном уровне тех людей, которые их принимают.
— Вы мужественный человек: вашим постоянным домом остается Москва, и вы продолжаете писать романы.
— Я делаю то, что мне нравится. Это работа, которая доставляет мне большое удовольствие. Мужество мое заключается в том, что вы спрашиваете, а я отвечаю. Я совершенно не веду никакой политической деятельности. Я подписываю письма, когда они попадают мне в руки, и естественно, что моя фамилия оказывается в первой пятерке подписантов. Моя роль в этом движении несколько преувеличена, может, даже сильно преувеличена. Потому что функция моя — смотреть, наблюдать и отвечать на вопросы, когда мне их задают. Это я делаю. Я не специалист по разрешению проблем, но я их вижу, могу их обойти со всех сторон, показать какие-то их бока. Такая тяжелая для меня книга, как «Даниэль Штайн», не дает никакого рецепта жизни, она просто рассказывает о том, как выглядит эта проблема с разных точек зрения.
— Можно задать вопрос о ваших диалогах с Михаилом Ходорковским и вашей интуиции — не подвела она вас?
— Мы с Михаилом Борисовичем Ходорковским не единомышленники. Если вы помните, один из первых вопросов, который я ему задаю: как могло получиться, что мальчик из приличной семьи — инженерской, добротной — пошел работать в комсомол. На что он мне говорит: «Я патриот». Это сразу было тем водоразделом, когда стало ясно, что мы не единомышленники. Человек, который идет работать в военно-промышленный комплекс — это человек с определенным комплексом идей, и поэтому я исходила из этого. Но, в предыдущие годы я очень много ездила по России с Катей Гениевой. И куда бы я ни приезжала, всюду в библиотеках стоял компьютерный класс, который подарил Ходорковский, в детской колонии — компьютеры для заключенных, которые дал Ходорковский, бесконечное количество мероприятий, которые финансировались Ходорковским — и это было очень интересно. Кроме того, я знала о существовании интерната для детей-сирот погибших военных, который он организовал и содержал. История началась с расстрелянной пограничной заставы в Таджикистане — тогда там осталось очень много детей, и он организовал этот интернат. Интернат существует уже почти 20 лет. Это потрясающее образовательное заведение, замечательная учеба, прекрасная атмосфера: достаточно сказать, что из 30 детей 30 поступает в институты без репетиторов. И все это на деньги Михаила Борисовича Ходорковского. И даже когда он сидел в тюрьме, интернат продолжал работать, его курировали родители Ходорковского, находясь там с утра до ночи с детьми. И это те плюсы, которые я не могу не выставить Ходорковскому.
Я знаю, как богатые люди сходят с ума, покупают себе яхты, бог знает что, а это был все-таки человек, который понимал, что три килограмма черной икры съесть нельзя. И поэтому в этом смысле он жил как нормальный человек, осознавая, что есть некоторое количество денег, которые можно истратить, а есть какое-то количество денег, которые истратить нельзя, их надо отдавать, возвращать обществу, что он и делал. И вся эта история его посадки достаточно интересная, она много раз уже описана, но это не моя история. То, как он себя мужественно и замечательно вел в тюрьме во время заключения, конечно, меня очень подкупило, я с большим сочувствием и состраданием отношусь к заключенным. Мне позвонил Акунин, который к этому времени опубликовал свою переписку с ним, и спросил, не хочу ли я продолжить. Я сказала: да, я попробую. И очень рада, что это сделала. Мы все хотели тогда немножко поменять общественное мнение, потому что было совершенно ясно (для меня, по крайней мере), что это внутренние разборки, что он посажен не за то, что объявили ему в вину, он посажен за то, что он конкурент.
И по сей день Михаил Борисович вызывает у меня симпатию как человек мужественный и твердый. И деятельность его после освобождения, связанная с Открытой Россией, очень нужна и полезна. Какие у него задачи и цели — это ко мне не имеет отношения, этого я не знаю. Но то, что он в некоторой степени противостоит существующему режиму, это факт. Каким бы он был, к примеру, правителем, если бы так судьба сложилась и он стал бы нашим президентом (допустим такую маловероятную версию), я не знаю. Во всяком случае, не таким агрессивным, не таким несгибаемым милитаристом, каким выглядит сегодняшний наш правитель.
— Гораздо более информированным — 10 лет не прошли даром.
— Не знаю. Я видела его только один раз в жизни, когда он вышел из заключения. И… он был очень еще голодный. Мы были в ресторане, и он говорил: «Так мяса все время хочется, я привык кашу с хлебом теперь есть». Понимаете, это десять лет, когда физиология меняется. У меня, как у внучки двух посаженных дедов, это не могло не найти отзвука.
— О переводе «Зеленого шатра» — нас приятно поразил уровень перевода.
— Мне все чехи, владеющие русским, говорят, что замечательный перевод. Я с Аленой Махониновой достаточно хорошо знакома, это семейство мне чрезвычайно приятно, они много лет жили в России и они очень хорошо понимают все подтексты и тонкости текста, потому что они действительно включены в московскую русскую жизнь. Хотя они другого поколения, но, в общем, все очень добросовестно и хорошо сделано.
Интересна сама география переводов. Моя первая книжка вышла на французском языке, по-русски она была издана через год. Это был 1993 год. Сначала меня напечатали в Западной Европе: Франция, Германия. Через некоторую паузу — в Восточной Европе, потом напечатала Прибалтика, там где-то была Япония, Корея, Турция — это не так интересно. Предпоследний перевод был украинский — тут я просто взлетела на небо от гордости. А самый последний, буквально в прошлом месяце — повесть «Сонечка» перевели (никогда в жизни не догадаетесь) на арабский язык. И тут я почувствовала себя просто награжденной, потому что это ровно то, чего бы мне хотелось. Это культурное пространство. Когда существует такое напряжение между странами, такие глубочайшие разногласия (религиозные, политические, национальные), то культурное пространство — единственное, которое может эту дырку залепить, которое может этот детант осуществить. Поэтому я была очень счастлива, когда мне сказали, что на арабском языке вышла книжка еврейского писателя, пишущего на русском. И именно это знак того, как работает культура. Кто-то работает на войну, на ухудшение отношений, раздувание ненависти, недоверия, вражды, а книжечка — тоненькая, маленькая книжечка — она, конечно, никак не может на этих весах сыграть какую-то существенную роль, но это гирька на другой чаше.
— Это красивый конец разговора. Спасибо! Приезжайте, вы желанный гость в Праге — и по-чешски, и по-русски.