Новая рубрика знакомит читателей «Русского слова» с литературным творчеством русских эмигрантов, живших в Чехословакии, публиковавшихся в местных изданиях, а также тех, кто затрагивал в своих произведениях чешскую тему.
Иван Федорович Наживин (1874—1940) — русский писатель, автор исторических и религиозных романов. Октябрьскую революцию категорически не принял. В сентябре 1918 года бежал из Москвы и примкнул к Добровольческой армии. В 1920 году из Новороссийска эмигрировал в Болгарию, в 1921 году жил в Чехословакии, затем в Австрии и Югославии. В 1924 году окончательно поселился в Бельгии. О жизни в Чехословакии повествуют несколько глав книги «Среди потухших маяков: из записок беженца»1.
Мемуарам предпослан эпиграф из «Божественной комедии» Данте. В «смутное время», когда «смута эта выражается не только внешне, но и в душе человеческой живет», для И. Ф. Наживина Данте, как и вся мировая культура, — один из неугасших маяков...
Non è il mondan rumore altro che un fiato
Di vento, ch'or vien quinci ed or vien quindi,
E muta nome, perchè muta lato…2
«Мы же бредем среди потухших маяков и куда придем мы и как, мы не знаем…»
***
Когда же конец нашим скитаниям — ведь длятся они уже почти два года! Когда мы будем спать на своей кровати? Когда будет у нас хоть какой-нибудь угол?
<…> Мы решили ехать дальше на север, в Прагу, и на другую же ночь я выехал в Белград, чтобы хлопотать о проклятых, ни на что не нужных визах: жулики и проходимцы или просто обходятся без них или великолепно добывают их, а люди лояльные воют от всей этой ерунды волком.
<…>
И вдруг встречаю на улице И. А. Бунина. Он только что вырвался из Одессы на французском миноносце. В Софии его начисто обобрали жулики, взяв решительно все: деньги, академические золотые медали, бриллианты жены, все. А ненужные им документы аккуратно возвратили ему по почте. Это были русские, большевики, служившие в той гостинице, где останавливался он. Здесь, в Белграде, он жил в холодном вагоне III класса с выбитыми стеклами. Иван Алексеевич страшно нервничал и капризничал: сербы не дали ему квартиры — жаловался он, — наш посол В. Н. Штрандман3 принял его в передней, на ходу, но всех лучше отличился кн. Г. Н. Трубецкой4, который деликатно осведомился у Ивана Алексеевича:
— А вы, собственно, чем же занимаетесь?
— Да так, знаете, пописываю… — сердито отвечал Бунин. — Стишки там разные и все такое…
Вечером я зашел по делу к князю.
— Как же вы это так оскандалились, князь?
— Ей Богу, и понять не могу… — развел он руками. — Говорят: академик. Ну, я и думал, профессор какой-нибудь — мало ли их бывает? Мне и в голову не пришло, что это «тот самый, который»… Я не знал, что писатели тоже бывают академики…
Но, когда Иван Алексеевич забывал немного свои несчастья, успокаивался, я снова видел в нем прежнего Бунина, остроумного собеседника, с которым никогда не устаешь говорить. Иногда, когда бывал он особенно в ударе, он мастерски изображал разговор Льва Николаевича с Бальмонтом, копировал Горького, «Илюшу» Толстого, и все помирали со смеху.
<…>
Мы все были в нерешительности: оставаться почти нет возможности, а ехать — куда? Конец моей нерешительности положил И. А. Бунин. Встречаю его раз утром в кафе «Москва», возбужденного и довольного.
— Едем, едем!.. — говорит он. — Я достал себе купе до Вены в прямом вагоне. И вам обещали. Идите скорее закрепить его. А там увидим, куда лучше, в Прагу или еще куда…
Так мы и сделали. Я выхлопотал себе купе рядом с бунинским и наутро со скорым мы двинулись в путь. Конечно, отошел поезд с большим опозданием, конечно, переполненный выше всякой меры, конечно, великий развал сказывался на каждом шагу во всем, но таможенные порядки — «Finanz», как коротко, но с большой иронией назвал эту музыку кондуктор, — превзошли все, что только можно вообразить по части бессмыслицы. Багаж от Загреба шел в одном направлении, а пассажиры — в другом и вот, если вы не хотели — а хотеть этого трудно… — чтобы багаж ваш навеки застрял в Люблянах, где его должен досмотреть этот самый Finanz, то вы, оставив свой поезд, должны были лететь сто верст вслед за багажом, показать его там, а затем догонять еще сто верст тот поезд, на котором вы ехали раньше. Бессмыслица изумительная, но одной бессмыслицей больше или меньше, не все ли равно теперь? И мы покорно подчинились бессмыслице и понеслись в Любляны, к Finanz. Мы думали, что хоть за эти 200 верст с нас ничего не возьмут, ибо ехали же мы их совсем не для своего удовольствия, а для удовольствия Finanz, но с нас все же исправно взяли за билет все, что полагалось. Finanz очень любезно, т. е. совсем поверхностно, одним пальцем поковырял сверху в наших сундуках, велел закрыть их, налепил на них желтенькие билетики и отпустил нас с миром. Ну, не умно ли устроена жизнь человеческая?..
<…>
А под вечер И. А. Бунин, под мирный стук австрийского вагона, стал читать нам свои жуткие крестьянские рассказы и снова на нас повеяло далекой Россией, темной, нелепой, сбившейся с панталыку, но все же своей, родной. И думалось смутно: когда-то увидим мы этих наших нечесаных федеративных социалистов? Какими? Я думаю, что еще много чрезвычайных сюрпризов ожидает нас там, в этой стране Анчутки и трех китов5. Воображать, что там выдумали что-то такое особенное, «планетарное», как говорит этот грубый себе на уме фигляр Горький, что мы говорим миру какое-то новое слово, могут только очень, очень наивные люди. То, что делается сейчас в России, это совсем то, что и раньше делалось в ней не раз: это простая пугачевщина, это просто новые «воры» пришли вроде приснопамятных тушинцев.
<…>
А поезд наш тем временем все катился и катился и в полночь докатился до Вены — неузнаваемой, едва освещенной, жуткой… Найти в отеле комнату, как оказывалось, нечего было и думать. С сонными детишками мы сидели на подъезде вокзала и не знали, что делать, тем более, что и вокзал на ночь запирался. Бунин с женой уехали куда-то на извозчике. Наконец, подходит к нам какой-то германец в военной форме и говорит, что неподалеку, в одном совсем не первоклассном отеле есть общая ночлежка, где мы можем переночевать. Мы пошли и нашли большую полуподвальную комнату, где уже спало человек тридцать и где нам дали несколько кроватей. И то слава Богу! Мы хотели было отблагодарить германца соответствующим образом, но он сказал, что он с нас, иностранцев, ничего брать не желает, что он только из симпатии, из сострадания к бедным детишкам хотел помочь нам. И мы только крепко пожали ему руку. Ничего, жить еще можно, свет не без добрых людей все же! И чудесно все устроено: сперва разрушат одни у других пушками тысячи городов и селений, зальют землю кровью, а потом, глядишь, чужих детишек жаль…
<…> Когда в доброе старое время вы являлись по делу в какое-нибудь посольство, вас встречали приличные, чистые, говорящие чуть не на всех языках мира швейцары и кавасы6 и к вашим услугам были корректнейшие, всегда почему-то изумительно причесанные секретари, которые весьма предупредительно, очень точно и — из уважения к святости места, должно быть, — пониженным голосом немедленно давали вам все необходимые справки. Перед отъездом из Вены мы решили зайти в чешское посольство, чтобы справиться, где лучше в Чехии устроиться, как вообще там живется и проч. Нашли мы посольство. Старый дворец кишит народом. Довольно подержанный республиканский швейцар отчасти по-русски, отчасти на плохом немецком языке дает нам весьма неопределенные сведения, к кому нам тут обратиться. По широкой, красивой лестнице подымаемся наверх, во второй этаж, потом в третий, — настоящий лес дремучий!.. Весь дворец разбит на комнатушки: № 21 — экспорт, № 28 — импорт, № 35 — визы, № 41 — Finanz какой-то, № 45 — содействие чему-то, № 49 — противодействие чему-то, — ну, буквально, голова кругом идет! Ткнулись мы к одному, к другому, к третьему, — бесплодно и, как всегда в таких случаях, меня охватило чувство своего бессилия и невероятная тоска и апатия: ну, где же тут добиться чего-либо? На моего спутника, москвича-художника, это демократическое творчество произвело, видимо, совершенно такое же впечатление и мы, уныло постояв перед этой, знакомой нам со времени Керенского картиной, не солоно хлебавши, потащились прочь. И думалось: что же это значит, в конце концов, что стоит только «свежим общественным силам» дорваться до власти, до большого дела, как всюду и везде, над всеми широтами, они начинают с удушения жизни прямо невероятной канцелярщиной?..
<…>
Для того, чтобы получить теперь, в новой Европе, билет из Вены в Прагу, нужно с вечера стать в хвост у запертых дверей известного Reisebureau Schenker’a и ждать так до 9 часов утра. Можно поставить вместо себя и рассыльного — это стоит только 300 крон. И при этом надо предъявить свой паспорт, и при этом на паспорт больше двух билетов не дают, и при этом всякие ограничения, запрещения, исключения — прямо голова кругом идет! Но терпение беженца, взятки и труд все перетрут — в конце концов мы сидели-таки в чистом вагоне III класса с целыми стеклами, который шел прямо на Берлин…
И быстро катишься все дальше и дальше, и бегут мимо окна виды уже настоящей Европы: чистенькие городки, благоустроенные хутора, островерхие колоколенки, старательно обработанные поля. Но и в костюмах пассажиров, и в скудных завтраках их, и в почти пустых буфетах на станциях определенно чувствуется крайнее истощение, тяжкий надлом всей жизни и, когда вспоминаешь, что было тут раньше, прямо душа болит.
Доехали мы до чешской границы и — началось! Сперва в каком-то сараюшке нас тщательно осмотрели австрийцы: не вывозим ли мы материй, обуви, съестных припасов? И те, у кого это нашлось, поплатились — все у них было отобрано. Потом, в том же сараюшке, но с другого конца, начали осматривать нас чехи: рылись в чемоданах, выворачивали карманы, подробно считали, что было в бумажнике, ощупывали поголовно всех с ног до головы, и наконец отобрали у меня… мою московскую трость! И в трости могут быть запрятаны сокровища — целая коллекция палок стояла уже тут в уголке! Я взмолился, чехам стало стыдно, и палку мне возвратили. Я не помню уже, сколько раз «при старом режиме» переезжал я всякие границы, но никогда и нигде ничего подобного я не видывал. Воспоминание о наших русских корректных жандармах, вежливых таможенных чиновниках казалось прямо райским сном в этой тяжелой и грубой атмосфере чешского сыска. Я потом расспрашивал чехов: для чего все это проделывается? И мне объяснили: денег фальшивых очень много из-за границы ввозится. А что же раньше фальшивых денег не было? И не ввозились они? И есть дураки, которые повезут их среди белого дня? «Еще не налажено…» Ага, ну, налаживайте, налаживайте — ведь это так ново под луной, устройство таможни…
Перебрались и через это препятствие. Простояв несколько часов тут, едем дальше. В вагоне попадаются уже чехи. Они любезны с нами чрезвычайно, но сведения, которые сообщают они нам, в общем очень неутешительны: голодно, тесно, едва ли найдем что подходящее.
<…>
Но вот и златая Прага, называемая так, вероятно, потому, почему и Москва называется белокаменной и златоглавой; но если в Москве белого камня мало, а золотых глав немного, то в Праге золотого вообще ничего не видно, и этот пышный эпитет лишь метафора, которая говорит о привязанности чехов к своей действительно красивой и оригинальной столице и, пожалуй, к — золоту. Но оригинальную красоту Праги путник видит не сразу — с первого взгляда это только большой европейский город, окутанный густым облаком дыма и пыли…
Я оставил своих на вокзале, а сам направился в сопровождении одного любезного чеха в редакцию известной газеты Národní listy, где, по словам моего спутника, мне, русскому писателю, помогут чешские собратья в приискании помещения. Меня тотчас же любезно принял из редакторов д-р Каллаш, недурно понимающий по-русски, а потом вышел познакомиться со мной и д-р В. О. Червинка7. Они с кем-то посоветовались, куда-то позвонили и направили меня в отель Beránek. Я уже выходил из редакции, как вдруг в передней столкнулись мы с высоким пожилым господином с какою-то квадратной головой и твердым, острым взглядом.
— А вот и сам д-р Крамарж…
К. П. Крамарж8, к которому у меня было письмо от Н. Н. Львова, тотчас же пригласил меня к себе в кабинет, и я подробно рассказал ему о последних событиях на юге России. Он взял с меня обещание побывать у него, мы простились и, так как вечерело, то мы с моим постоянным компаньоном, художником Б., сломя голову бросились на поиски комнаты. Себе мы комнату разом нашли в «Беранеке», но детей туда под разными предлогами не пустили. Наконец, после долгой гоньбы по городу, я снял, не говоря о детях, две комнаты в одном отеле и поехал за своими на вокзал. Там швейцар уже теснил, выпирая их с вокзала: вокзал не постоялый двор…
И, наконец, мы пошли к себе отдыхать. Поднимаемся на лифте — пять лет не испытывали такого удовольствия! — идем замечательно чистым коридором, входим в небольшой, скромный, но сияющий чистотой номерок: проведенная вода, электричество, чистые постели. И мы все оглядываем друг друга смеющимися глазами и повторяем:
— А мы ведь все-таки в Европе, наконец!.. Черт возьми, а ведь это Европа…
Приводим себя в порядок и спускаемся вниз, в ресторан: свет, чистые скатерти, вежливые кельнеры и даже очень недурной оркестр.
— В Европе… Уже в настоящей Европе!..
Отмечаю себе, сравнивая с прошлым: выбор блюд скромнее, мало хлеба, сервировка не та, что прежде, — трещины жизни чувствуются и здесь…
А когда на другой день, побегав по делам, пришел я к своим, оказалось, что жену только что увели под конвоем в полицию за… сбыт фальшивых денег!
Пообедав с детьми в ресторане, она дала одну бумажку — не годится, фальшивая, другую — то же самое. Хозяин донес полиции, а полиция увела ее куда-то для дознания. А теперь очередь была за мной.
Действительно, скоро явился хорошо говорящий по-русски сыщик — у него был хороший хутор и пивной завод под Ставрополем, — с нежным именем Водичка и повел меня в полицию, где меня допросили и, отобрав у меня 11 фальшивых бумажек по 100 кр. и паспорт, попросили завтра утром явиться в центральное управление полиции. Наутро отправился я туда. Меня заставили прождать в передней более часу и — возвратили мне мои деньги, сказав, что все они не фальшивые и что все это вообще одно недоразумение. Но извиниться — забыли. И сердиться нельзя, потому «еще не налажено» — ведь все это так ново, так небывало, и организации полиции и сыска, и фальшивые деньги, и аресты ни в чем неповинных иностранцев.
И, видимо, все эти «шероховатости» здесь довольно обычное дело. Есть в Праге так называемый «Репрезентачни Дом»9, учреждение, которое соединяет в себе и ресторан, и бары, и кафе, и концертные залы, а в этом «Репре», как говорят тут, есть так называемый русский стол, за которым всегда собираются русские чехи, т. е. те, которые бежали теперь сюда из России. Так вот один из них, услыхав обо всей этой «обыкновенной истории», тряхнул головой и сказал:
— Ну, что же… Ведь вообще республика — это такой государственный строй, при котором полиция пользуется очень большой свободой…
Но другой не согласился и поправил:
— Нет. Республика — это такой строй, при котором в государстве отсутствует всякий строй…
Впрочем, русские чехи пользуются здесь репутацией матерых черносотенцев. Они весьма неодобрительно смотрят на настоящее положение своего отечества, всячески восхваляют старую Россию и только об одном и мечтают: чтобы восстановился там скорее порядок и чтобы могли они скорее возвратиться туда.
— Нет, нет!.. — упрямо повторял один из этих черносотенцев. — Я предпочитаю быть опять директором сахарного завода в России, чем президентом чехо-словацкой республики, потому что там директор хоть что-нибудь да может делать, а здесь президент — ничего.
Не знаю, так ли это, но что старушку Россию жалеют и любят, это приятно. Значит, уж не так безнадежно плохи были мы, как нам казалось.
Но замечательнее всего был афоризм одного чеха в трамвае. Услыхав по разговору, что мы русские, он счел своим долгом завязать с нами беседу. Оказалось, что до войны он был в Киеве мясником.
— Плохо, плохо!.. — сказал между прочим этот совсем простой человек. — Был царь в России, был у чехов хлеб в Богемии, а не стало в России царя, не стало у нас хлеба и все идет к черту…
<…>
И здесь слышно в жизни великое оскудение и ничем не замазанные еще трещины. Сунулись купить себе платье — все очень дорого и следа нет в нем прежней европейской доброты. Иногда вдруг в ресторанах перестают подавать хлеб, иногда не хватает посетителям пива, почта работает далеко не так, как работала она в Европе в старину, сдачи иногда дают вам почтовыми марками, и самые марки эти сделаны уже плохо, серо, как серы и эти жалкие новые кредитки… Но, конечно, понемногу жизнь войдет в свои права и «все образуется» — только не скоро, не скоро вернется Европе то, чем она так широко пользовалась до военного опыта государственно мыслящих господ…
Чем скулить так бесплодно на развалинах старой Европы, поднимемся лучше извилистыми старыми уличками и бесконечными лестницами на вершины холмов, тянущихся по левому берегу серебряной Влтавы, туда, где разбит сравнительно молодой еще, но красивый парк, на Летну. Здесь уже щетинится молодая веселая травка с золотыми созвездиями одуванчиков, здесь глаз с удовольствием встречает и «русскую» липу, и клен, и дуб, и нашу елочку, и нашу березку. Отсюда, с высоты, открывается бесподобный вид на лежащую внизу, в котловине, и потому всегда окутанную пеленой дыма и пыли Прагу. Один гулявший тут со мной чех-киевлянин сравнивал этот вид с видом, что открывается в Киеве из Царского Сада, но это совершенно неверно: здесь перед вами большой город, там — зеленое безлюдье заднепровских лугов и лесов, почти такое же, как во времена злых половцев и татар, здесь взгляд ваш заперт в котловине, там перед вами дух захватывающие синие дали, и как ни хороша эта Влтава, это все же далеко не Днепр!..
Направо, на высоком холме, красиво подымаются Градчаны, пражский Кремль, с его старыми дворцами, стрельчатым, уносящимся в высь собором и тяжелыми крепостными стенами. Если спуститься вниз и старым мостом, украшенным статуями святых, перейти серебряную Влтаву, сразу попадешь в самую старую, саму живописную, самую интересную часть Праги, в так называемое «Старо Место». Тут запутанный лабиринт узких уличек, темных переулков, в которых не проедет никакой экипаж, тут старые церкви и башни, тут расписные средневековые дома и тут же видишь дань современных чехов своему прошлому, смело задуманный, но очень плохо поставленный — весь серый среди серых домов, — памятник Яну Гусу…
Я не раз подходил к высокой величавой фигуре Яна и — тяжкой жутью веяло мне в душу от этого памятника. Люди ясно разделяются на две породы: для одних жить значит прежде всего жрать и плодиться, для других жить — это значит прежде всего мыслить. Из-за самки и из-за куска хлеба люди, как и животные, готовы перервать один другому глотку, но никогда за это хищная порода наша не прольет и сотой доли той крови, которая проливается людьми думающими, вроде того же Гуса! Всякая мысль человеческая выкупана в крови «до отказа» <…>. Бедный Ян Гус!.. Умереть за то, как надо есть причастье: в двух видах или в одном! Да не все ли это равно? Нет, не все равно: Яна спалили за это, старушки в святой простоте подкладывали дровец на его костер, а потом люди заливали землю кровью в течение долгих гуситских войн, результатом которых было то, что и результат великой европейской войны: великий и злой пуф…10
Градчаны и Старо Место — это Прага старая. Вокруг нее шумит Прага новая, большой и богатый европейский город, так еще недавно полно живший своей сытой, разукрашенной жизнью. И над всеми этими старыми соборами, часовнями, статуями святых, над зелеными парками, над воющими трамваями и шикарными театрами и кафе всюду и везде высятся огромные фабричные трубы, это гнуснейшее порождение нашей цивилизации. И днем и ночью вьется черный дым, скрывая от людей небо.
<…>
Я в это время часто бывал у К. П. Крамаржа на его прекрасной вилле, откуда открывается такой замечательный вид на серебряную Влтаву и на Прагу. Милый хозяин, образованный, умный, богатый человек, горячий патриот, который рисковал ради родины головой, был на волосок от смерти, то и дело носился в это время на своем автомобиле по республике, выступая на бесчисленных митингах, а иногда и просто только показываясь толпе выборщиков: он здесь чрезвычайно популярен. И вот приезжает он домой, пыльный, измученный, с потухшим лицом и без всякого голоса, и я смотрю на него и в тишине про себя думаю: да что же это такое? Какая же цена тому общественному строю, который ставит для всякого честного, разумного и опытного государственного работника непременным условием пройти до возможности работать через все мытарства, всю ложь, всю грязь избирательной кампании, который ставит его в одинаковые условия, равняет с невежественным орателем с перекрестка, который заставляет его, чтобы быть полезным своей родине, заискивать у ничего в конце концов непонимающего скопища полуграмотных невежд, которое мы, подыгрываясь, называем то демократией, то державным хозяином земли нашей, то суверенным народом, то еще черт знает как?.. <…>
Редакция Narodni listy нашла нужным поместить мое «Обращение к чешскому народу», в котором я предостерегал его от крайних увлечений при выборах, от тех увлечений, которые погубили Россию, а меня выбросили в Прагу: мне казалось прямо обидным, чуть не преступным не поделиться нашим богатым опытом, не предостеречь людей. Статья моя понравилась, и меня попросили написать еще статью для «Народной Политики», имеющей более демократическую аудиторию. И там появился мой «Глас русского списователя», — как чехи называют писателей. <…> Но все же в политику лез я не очень.
<…>
Жить с детьми в гостинице было и неудобно, и дорого, найти же подходящую квартиру в Праге было совершенно невозможно: до такой степени тут все забито! К тому же была середина апреля, всюду зазеленела травка, солнышко весело сияло за этой дымной тучей, вечно висящей над городом, и иногда среди городского шума ухо ловило нарядную песню дрозда, устроившегося где-то в городском сквере. Тянуло на свежий воздух, в тишину солнечных полей, в уединение леса, который я так люблю. Я по душе совсем деревенский житель, и город всегда давит меня, как тесный сапог. И когда хочется мне отдохнуть в мечте, я думаю всегда о лесных дебрях нашего милого русского севера, об ущельях Алтая, о пустынных северных реках, где никого, никого нет…
И странную черточку подметил я в городских водоворотах теперешней Европы. И в Белграде, и в Вене, и в Праге кино всегда переполнены и наплыв публики тем яростнее, чем дальше пьеса от нашей современной городской жизни. Если ставится, например, какая-нибудь американская драма в 150 верст длиной, кино прямо штурмуется нетерпеливой тысячной толпой. Недавно я смотрел такую драму: глупее, нелепее ее и представить себе ничего невозможно, но на сцене дикие горы, скачущие всадники, какой-то священный тигр, пальба из ружей, широкая, привольная, дикая, полная всяких неожиданностей жизнь, и вот самый мирный, почтенно обложившийся жирком буржуа с супругой и детками сидит в темном сарае два часа и наслаждается всеми порами души и тела11. Что это такое? Неужели это та же тоска по природе и приволью, которая сосет и мою душу в этой душной, городской тесноте? Если так, то что же мешает нам сбросить с себя проклятые оковы и уйти туда, куда так властно зовет нас наше сердце?
<…> В самом деле, я люблю одиночество, люблю природу, и найти какую-нибудь хижинку в горах тут было бы несравненно легче, чем в многолюдных городах, и дешевле там было бы, а вот нельзя! Почему нельзя? Потому что детям «нужна гимназия». На какой же черт она им так занадобилась? Что дали мне те знания, которые я сам вынес оттуда?
<…>
Раз утром по пути к К. П. Крамаржу попал я в Летненский парк, что раскинулся на крутом берегу Влтавы, над Прагой. В парке никого не было, — только одна какая-то некрасивая девушка сидела на скамье, уткнув нос в потрепанный учебник стенографии. В солнечной тишине утра пели дрозды, зяблики, звенели синички и так свежо, так отрадно пахло молодыми клейкими листочками березы, пригревшейся землей, травой… И в песке дорожек, и в молодой траве, и в коре деревьев шла неустанная весенняя возня всяких букашек — целый мир, так от нас близкий и в то же время страшно далекий. <…> Я сидел в пахучей тени деревьев, а неподалеку от меня, приподняв свой длинный хвост, прыгал по траве в поисках за кормом чернобурый дрозд. В кармане у меня лежали чешские газеты с моими предвыборными статьями. И подумалось мне: эти прыжки дрозда в зеленой траве, и эти мои статьи на трухлявой бумаге в существе своем одно и то же. <…> Дрозд скачет, подняв хвост, а я пишу в газеты, а в основе одно и то же: темное, могучее, вечное. И он, и я — паяцы, и один и тот же режиссер дергает нас за ниточки и заставляет нас плясать так или иначе на мировой сцене и — что удивительно — никак не надоедает ему это представление, не спускает он занавеса и не говорит: ну, довольно, баста!..12
Подготовка текста и комментарии О. Репиной.
Продолжение в следующем номере.
1 Публикуется по изданию: Наживин И. Среди потухших маяков. Берлин: Икар, 1922. Сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации.
2 Мирской молвы многоголосый звон —
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он.
(«Чистилище». Песня XI. Перевод М. Лозинского).
3 В. Н. Штрандман (1873—1963) — дипломат. С апреля 1919 г. назначен А. Колчаком посланником в Белграде (до 1924 г.).
4 Г. Н. Трубецкой (1874—1930) — дипломат, публицист. С января 1920 г. назначен Главноуполномоченным по делам беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.
5 По-видимому, для Наживина это не только символ дремучести и невежества русского народа, но и поселившегося в нем злого духа (Анчутка в восточнославянской мифологии — злой дух, чертенок, бесенок). Ср. в другом его рассказе: «Презренные болтуны орали, что мы идем в авангарде народов, указывая миру новые пути. Это вздор: в нашей стране еще плавают три кита, в нашей стране живет еще Анчутка, в нашей стране все еще возможно». См. Наживин И. Ф. «У разбитого корыта». В сб. «Детинец». Берлин, 1922. С. 154—196.
6 Полицейский, жандарм при посольстве в Константинополе.
7 Червинка Винценц (Vincenc Červinka) — чешский писатель и журналист, редактор газеты Národní listy.
8 Крамарж Карел — чешский политический деятель, первый премьер-министр Чехословакии (1918—1919). И. Наживин в соответствии с русской традицией добавляет в инициалы и начальную букву отчества: В. О. Червинка, К. П. Крамарж. См. далее обращение к Крамаржу — Карел Петрович.
9 Reprezentační dům — так сначала назывался Obecní dům — Муниципальный дом на площади Республики (Náměstí republiky).
10 Ложное, раздутое известие, рассчитанное на обман доверчивых людей. См. Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб., 1907.
11 Вероятнее всего, речь идет об американском приключенческом фильме The Tiger's Trail, снятом режиссером Робертом Эллисом (Robert Ellis) в 1919 году.
12 Зд. Наживин безусловно излагает толстовские взгляды: жить, наиболее приблизившись к природе, на земле, отказавшись от лишних цивилизационных благ и обеспечивая себя самому.









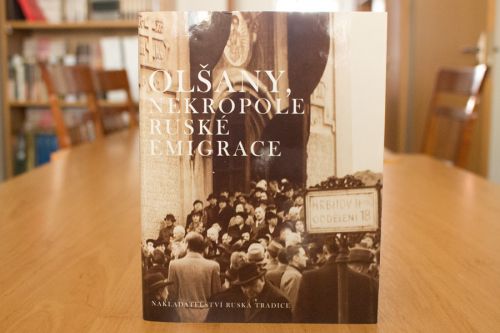
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
теги: новости, 2024
Уважаемые наши читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим вам сообщить о том, что подготовлен макет последнего в этом году номера нашего журнала. Журнал "Русское слово" №12 сверстан и отдан в печать в типографию. К...
Благотворительный вечер
Благотворительный вечер
теги: новости, 2024
Дорогие друзья! Рождество и Новый год — это время чудес, волшебства, теплых семейных праздников и искреннего детского смеха.Фонд Dum Dobra не первый год стремится подарить частичку тепла украинским детям- сиротам, потерявшим ...
Пражская книжная башня — территория свободы
Пражская книжная башня — территория свободы
теги: культура, история, 2024, 202410, новости
С 13 по 15 сентября в Праге с большим успехом прошла первая международная книжная выставка-ярмарка новой волны русскоязычной литературы Пражская книжная башня. ...
Государственный праздник Чехословакии
Государственный праздник Чехословакии
теги: новости, 2024
28 октября Чехия отмечает День образования независимой Чехословацкой республики. День создания независимого чехословацкого государства является национальным праздником Чешской Республики, который отмечается ежегодно 28 октября. О...
Из путинской клетки
Из путинской клетки
теги: 202410, 2024, культура, новости
В саду Валленштейнского дворца 30 сентября 2024 года открылась выставка «Путинская клетка — истории несвободы в современной России», организованная по инициативе чешского Мемориала и Сената Чешской Республики. ...
Воспоминания Александра Муратова
Воспоминания Александра Муратова
теги: новости, 2024
14 октября с.г. из типографии вышла первая книга "Воспоминания" Александра Александровича Муратова многолетнего автора журнала "Русское слово" Автор выражает слова благодарности Виктории Крымовой (редактор), Анне Леута (графическ...
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
теги: новости, 2024
Уважаемые читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим сообщить вам о том, что десятый номер журнала "Русское слово" сверстан и отдан в печать в типографию. Тираж ожидается в ближайшее время о чем редакция РС сразу все...
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
теги: культура, 2024, 202410, новости
Третьего октября в пражской галерее «Беседер» открылась выставка работ украинского художника Андрея Коваленко. ...