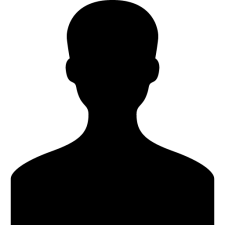Сегодня я с ужасом читаю воспоминания времен Первой мировой войны: бессмысленность ее начала и кошмарные последствия напоминают события наших дней и в определенной степени помогают заглянуть в будущее. В мемуарах чешских авторов отражены почти все эмоции, которые выпало испытывать и нам: ощущение, что остановилось время, что оно пошло назад, что дни убегают или, наоборот, тянутся неестественно долго. А еще — удивление и растерянность, когда близкие люди вдруг становятся на позиции, совершенно для вас неприемлемые, когда друзья и родственники отгораживаются в своем мирке, надеясь, что все быстро кончится, что кто-то другой разрешит все проблемы.
В 1914 году в Чешских землях многие почувствовали напряжение, «бурю перед грозой», даже те, кто был в юном возрасте, как Ольга Шайнпфлюгова (Olga Scheimpflugová), известная актриса, позднее жена великого Карла Чапека. Я буду цитировать по книге Byla jsem na světě («Я была в этом мире»), вышедшей в пражском издательстве Mladá fronta в 1988 году.
«To bude válka», řekl táta <…>. Národy dovedou stejně silně a stejně hloupě nenávidět jako jednotlivec. («Война начнется», — сказал папа <…>. Народы умеют ненавидеть друг друга с той же силой и так же глупо, как и отдельные люди. — Перевод мой. С. М.)
Во многих мемуарах пишется о быстром и необъяснимом изменении общественной атмосферы. У Шайнпфлюговой: V Čechách se cosi neviditelného pohnulo a už se to nedalo zadržet. Nechuť, odpor a nenávist se valily ulicemi, i když nikdo neřekl nahlas, co si myslí. (В Чехии сместилось что-то невидимое, и остановить это было нельзя. Пассивность, отвращение и ненависть затопили улицы, хотя никто не говорил вслух, что думает.)
В Чешских землях началось нечто, что окрестили… частичной мобилизацией. Многие молодые мужчины старались изобрести способ, как ее избежать. Ольгин брат Карел решил довести себя до дистрофии, что ему удалось сделать довольно быстро, тем более что начались перебои со снабжением, а потом и просто голод. Молодой человек не ел 25 дней и уже не мог ходить, в мобилизационный пункт его повезли в экипаже, признали непригодным — и так несколько раз.
Администрация Австро-Венгрии считала, что война быстро закончится, поэтому никаких запасов сделано не было. Střídaly jsme se sestrou v nekonečných frontách na bohníček přídělového chleba, který se nám rozsypal v tašce, než jsme ho po čtyřhodinovém čekání před obchodem donesly domů. Ostatní jídlo nahrazoval na rodinném stole tuřín a vodnice, zaděláváná černou lepkavou moukou a maštěná sotva znatelně ubohým margarínem. (Мы с сестрой подменяли друг друга в бесконечных очередях в ожидании буханочки хлеба, который выдавали по карточкам, но хлеб рассыпался в сумке еще до того, как мы приносили его домой, отстояв четыре часа. Репа и брюква, замешанная на черной клейкой муке с чуточкой жалкого маргарина, стали единственной едой, которую мы могли поставить на семейный стол.)
Шайнпфлюгова оставила воспоминания о тыловой жизни гражданского населения, тогда как война, увиденная глазами мужчины, непосредственно принимавшего участие в боевых действиях, еще ужаснее. Удивительно, насколько описания трагедии на реке Дрина, сделанные в свое время прославленным журналистом Э. Э. Кишем (E. E. Kish) в статье Reportér vojákem («Репортер в качестве солдата») напоминают мне рассказы отца об отступлении советских войск с полуострова Ханко во время так называемой Финской компании: Všude kolem mne tonoucí, bránící se utonout, lapají vzduch a chroptí. <…> Chytají-li se neplavci plavců, snaží se plavci zoufale je setřást. Mlátí sebou společně, společně utonou. (E. E. Kish. Tržiště senzací. Svoboda. Praha, 1951) (Везде вокруг меня люди идут ко дну, стараются выплыть, хватают воздух и хрипят. <…> Не умеющие плавать цепляются за тех, кто плавать умеет, а пловцы изо всех сил стараются их отпихнуть. Все барахтаются вместе и вместе идут ко дну).
Далее Киш рассказывает в точности то, что я с ужасом выслушивала, будучи ребенком: переполненное суденышко уже не может брать пассажиров, поэтому команда бьет веслами по рукам хватающих за борт, некоторые пассажиры, сами чудом попавшие на лодку, каблуками наступают на фаланги пальцев своих товарищей.
И теперь — уничтожающее всякую надежду завершение: «Holé výmysly», podotkl můj bratr. «Ani slovo o tom nebylo v novinách». («Все выдумано, — сказал брат, — ни слова об этом не было в газетах».)
Закончить хочется опять словами Шайнпфлюговой. Она упоминает о больших битвах Первой мировой войны, о сражениях у Вердена и на Марне, а потом пишет: Není pravda, že je život v takových událostech veliký, jak jej pak dodatečně vidí historie, ve válce je život malý, lehko pozbytelný, celý pokřivený strachem, pokrčený hladem a pomuchlaný nejistotou. Je malý proto, že v něm je uraženo hrdinství, potlačen soucit a zhanobená pravda. (Это ложь, когда говорят о величии жизни во время военных действий, когда потом, задним числом, в таком ключе их преподносит нам история. Во время войны жизнь скукоживается, становится маленькой и висит на ниточке, извиваясь от страха, измятая голодом, повисшая в пустоте. Жизнь мельчает потому, что в ней оскорбляется героизм, подавляется сочувствие и оскверняется правда).