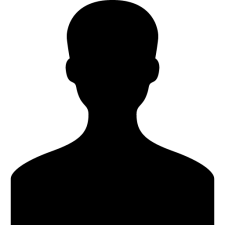Прилетаю из Праги в Хельсинки и узнаю, что на автобус я опоздала. Предстоит провести ночь в аэропорту. Забиваюсь в свой уже опробованный уголок, предназначенный для инвалидов-колясочников. Тут можно приткнуться и при необходимости отойти, не боясь, что место сразу займут.
Рядом с моим креслом (обычным, не инвалидным) дверь, которой пользуются приезжающие в аэропорт на такси. Это смотр всего человечества: высоченные и маленькие, старые и молодые, девочки-принцессы и их матери в хиджабах. А еще демонстрация отношений в семье: то жена тянет тележку с огромными чемоданами да еще ребенка за плечами, то щупленький муж водружает на себя гигантский багаж и к тому же умудряется тащить инвалидное кресло, а жена с крошечной сумочкой идет гренадерским шагом впереди. Просидев много часов, увидишь в образцах всех нас, жителей планеты Земля...
К вечеру толпа заметно редеет. Можно перекочевать вниз, к ресторанам с острой пищей и гамбургерами, к опустевшим магазинам. Вот мужчина на тележке перевозит ящички с помидорами. Наверное, запасы на завтрашний день. А теперь он едет обратно, и электротележкой управляет ребенок лет четырех. Взрослый стоит позади, готовый помочь. Малыш полностью сосредоточен, его личико напряжено, но светится счастьем. Отец фотографирует сына, он тоже переполнен гордостью. Проехав туда-сюда несколько раз, тележка исчезает из вида, чтобы появиться уже без ребенка минут через десять. Я встречаюсь глазами с нарушившим правила эксплуатации передвижных средств человеком. Улыбаюсь во весь рот. Мы понимаем друг друга. Мы (пока) люди.
Проходит много часов, вся ночь, и можно идти к автобусу. Светает. Через неполных два часа будем на границе. А пока из окна виден однообразный пейзаж, перемежающийся фантастическими картинами: на розово-голубом с лимонными оттенками небе вдруг вырисовываются силуэты сосен в три оттенка серого. На серый накладывается черный кружевной плоский пейзаж, филигрань каждой ветки мелькает, сменяется, как декорации в театре. Между соснами, в низине, валяются облака тумана. Этот туман живой, он медленно ползет, но движение автобуса не позволяет понять куда. Вот снова болотце, блеснула вода, силуэт тростника напоминает пальмы, хотелось бы выйти и сфотографировать эту красоту, но автобус проезжает дальше, и ничего, кроме бесконечного забора, не видно.
Мы на финской границе. Мне повезло, и я прохожу ее очень быстро. Надо ждать остальных пассажиров. Мои любимые ласточки, живущие под крышей (и на российской стороне тоже) еще спят. Три чайки летают низко над лугом, как будто этот луг — не трава, а море. Две что-то ловят в траве, а одна наблюдает.
От недосыпа и всего прочего я нахожусь в состоянии, похожем на опьянение. Мы проезжаем несколько сот метров, и вот уже Россия. Нам командуют: «Со всеми вещами на выход». Но и тут мне везет: мой чемодан, самый маленький из всех, не возбуждает интереса. Прохожу границу и выхожу на улицу.
Девушка, шофер микробуса, мечется туда-сюда с ворохом документов. Ее уже проверили раза четыре и вновь посылают куда-то с бумагами, потом заставляют открыть передний капот. Она совсем замоталась и начинает путать кнопки, окна машины бессмысленно открываются и закрываются. Наконец ей удается справиться с крючком капота (знаю-знаю, и у меня такое случалось на техконтроле), но в машину уже не заглядывают.
Я внезапно поднимаю глаза вверх и вижу силуэты трех журавлей. Птицы летят очень низко, видно оперение на крыльях, как будто картина нарисована на японской лаковой шкатулке. Не только я стою, подняв голову вверх. Журавли удаляются, и снова мы там, где были, и снова на календаре начало июля 2023 года…
Конец июля. В Питере грядет очередной праздник, еще за пару дней до него перекрывают движение в центре на многих улицах, на набережных. Я спешу, но транспорт передвигается шагом, люди везде опаздывают, никакого энтузиазма мероприятие не вызывает ни у одного из моих сегодняшних случайных попутчиков: шофера такси, пожилой женщины в автобусе, матери с двумя плачущими детьми в трамвае… С пожилой дамой решаем перейти Охтинский мост пешком — так быстрее. Вскоре я прощаюсь — мне уже надо бежать: сиделка скоро уйдет, а мама не может находиться дома одна.
На красный свет мне приходится остановиться. Смотрю по сторонам. С тумбы на меня глядит плакат, призывающий идти на войну (пардон, СВО) за 204 тысячи рублей в месяц с приплатой (позднее ставка повысится). На плакате изображен мужчина, то ли падающий в обморок, то ли наглотавшийся наркотиков. Его чуть косящие глаза закатываются, он явно не горит желанием действовать.
Рядом еще одна тумба с плакатом, призыв праздновать День военно-морского флота. С этой тумбы вдаль глядит адмирал Нахимов. Под командованием Нахимова в 1853 году была одержана победа над турецкой флотилией, что получило название Синопской битвы. Вот только незадача: Нахимов был убит в середине кампании, а войну за Османское наследство Россия проиграла и вынуждена была просить мира. По мирному договору 1856 года страна потеряла южную Бессарабию и лишилась права иметь флот на Черном море…
А сам Нахимов снискал уважение даже врага. Когда его хоронили, неприятель прекратил огонь, чтобы отдать почести стратегу. Правда, вскоре захоронение адмирала и других участников кампании было разграблено, с тел сорваны ордена и эполеты. Второй раз останки Нахимова подверглись осквернению во время революции в 1918 году, но грабить было уже нечего…
По телевизору все чаще показывают заставку «История повторяется». Фраза сопровождается кадрами, которые должны убедить зрителя, что Украина — это нацистское государство. Опять лозунг: «Снова мы воюем с нацистами». Кажется, чем чаще повторяют эту ложь, тем больше к ней привыкают: и те, кто лжет, и те, кто их слушает. А некоторые участники т. н. СВО, похоже, воспринимают военные действия как компьютерную игру, и даже ранение (собственное) или смерть товарищей не пробуждает от угара.
Не отстают и журналисты. Например, в когда-то уважаемой газете «Аргументы и факты» (№ 28/2023) опубликовано интервью с наемником А. Голдманом, подписанное именем Юлия Борта. Вот всего один фрагмент:
— Можете вспомнить наиболее яркий (военный. — С. М.) эпизод?
— Как-то потерялись три бойца. Они были чуть дальше передовой. Вдруг немцы начали напирать…
— Какие еще немцы?
— Мы так называем военных ВСУ. Так вот, когда прошло два дня, и мы поняли, что те бойцы не вернутся, я взял пять человек, и пошли их искать. И нашли. Один «двести», второй «двести». Мимо идем — голова оттуда вылезает… (код «двести» означает «убит»).
Далее следует рассказ о том, как отряд расстрелял двух взятых в плен украинцев, а третьего не смогли убить два раза кряду, поэтому решили «пожалеть» и взяли с собой…
По вечерам, когда мама спит, я читаю военную литературу, которую всегда не любила. Читаю новыми глазами. В связи с событиями сегодняшнего дня эти книги, даже написанные достойными и уважаемыми авторами, вдруг поворачиваются неожиданными гранями, отчего становится еще больше не по себе… Беру Платонова (Одухотворенные люди, М., 1986) и на с. 70 читаю: «(Мирному) человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении. Тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого счастья».
Я вывожу гулять свою маму, прожившую почти целый век. Если спросить ее, какой сейчас год, она скажет: «Тысяча девятьсот…» — а потом задумается.
Мы садимся на неудобную скамейку на тяжеленных металлических ногах. Напротив нас сидит поэт Александр Кушнер, приближающийся к девяностолетию. Рядом с ним жена, у нее красная сетка с желтой круглой дыней, такие когда-то назывались колхозницами. Мы киваем друг другу: в пределах двух садиков все старики знакомы, хотя бы шапочно.
За углом — здание чешского консульства. Оно закрыто, нет ни флага, ни привычных горшков с помидорами на гараже. Сбит государственный герб, а рана на фасаде заштукатурена и закрашена так, что и не найти заплаты. На расположенном неподалеку финском консульстве пока висит флаг, и машина видна во дворе…
Накрапывает дождь. Чета Кушнеров уходит домой. Мы поднимаемся тоже. «Времена не выбирают, в них живут и умирают», — вспоминаются строки нашего соседа…
Сегодня 28 июля. Утром я встретилась с А. А., все еще полной энергии и решимости, человеком, которую сравнивают с другой А. А. — Анной Ахматовой… Мы сели за столик недавно открытой булочной с кафе, вполне в европейском стиле, где подают круассаны пяти сортов, булочки с яблоками и курагой, круглый, бубликом, темный хлеб, названный австрийским, чиабатты и прочая, прочая.
Моя собеседница была взволнована. Она показала мне фото, сделанное только что в дамском туалете поликлиники. На стене надпись большими буквами: МИР. Написано красным фломастером. Под ней черным: смерть жидам, украинцам и пидерастам. Под этим опять большими буквами: МИР. Отец моей собеседницы, перешагнувшей восьмидесятилетие, еврей, когда-то женился на украинке из Мариуполя…
Потом мы поговорили о кадровых перестановках в крупнейших российских музеях. Я рассказала о вернисаже, на котором недавно побывала, о худших своих опасениях, которые подтвердились на все сто процентов. Узнала новые факты об этих фигурах…
Потом я проводила А. А. до угла, побежала (буквально) домой, но в последний момент решила зайти в только что покинутую булочную и купить хлеба.
На новом белом полу, не рассчитанном на петербургскую погоду, была огромная лужа. Я проехалась по ней в ставших вдруг скользкими босоножках, оперлась на руку, смягчая падение, и рука хрустнула. Посетители, жующие пирожные, не повернули головы. Продавцы, недавно столь любезные, делали вид, что меня не замечают. Уборщица пытается помочь мне встать и тянет за сломанную руку.
Три часа в очереди, покупка ортеза (российского производства) за 1200 рублей, благо травмпункт тоже за углом. Мне говорят, что в следующий раз меня обслуживать не будут, ведь я не получаю пенсию в России, у меня нет внутреннего паспорта и страховки. Так что, можно считать, мне опять повезло. Очень повезло до следующего раза…