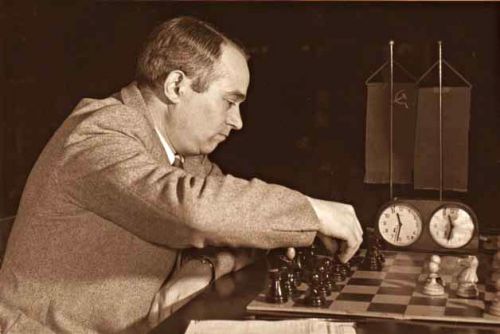Все же он и здесь продемонстрировал дежурный оптимизм и сказал: мол, не думаю, что «за столь короткий срок я совершенно разучился играть в шахматы, и надеюсь, что в следующий раз мне удастся восстановить свою репутацию».
…Я все это писал, говорил он (накануне своего семидесятилетия в своей московской квартире за чашкой кофе без кофеина — и хотел казаться бодрым), но что-то подсказывало мне: следующего раза, равного АВРО-турниру (1938), Второму московскому (1935) или кемерскому (1937), не будет; не надейся и не жди; и вот — невеселый эпилог к этой главе моей жизни: я сдержал слово, которое дал Ботвиннику, и направился с ним в Carlton-отель, к Алехину, чтобы присутствовать при переговорах о матче между ними. Михаил Моисеевич благословение на аудиенцию с чемпионом получил свыше, в частности от советского посла в Бельгии, проконсультировавшегося перед этим со своим начальством.
…Итак, Амстердам, 27 ноября 1938 года. Они втроем в Carlton-отеле: Алехин, Флор, Ботвинник. Каждый по-своему заглядывает в будущее. Михаил Моисеевич посвятил этому историческому моменту несколько строчек. Он пишет: «Пригласил я с собой Флора (нужен был авторитетный свидетель — разве Алехин не связан с белоэмигрантами? Осторожность необходима). <...> И сейчас он был приветлив к нам обоим (ведь ранее он собирался играть матч с Флором. Флор, конечно, переживал, что сейчас не он, а другой договаривается о матче, но не подавал виду)». И вот еще — о Сало Флоре: «Мой спутник обязан обладать несколькими важными качествами: к нему с уважением должен относиться шахматный мир, от него самого требовались безусловная честность и лояльность по отношению к Советскому Союзу, и, наконец, он не должен быть болтлив… Всем этим требованиям Флор отвечал, при таком свидетеле можно беседовать с Алехиным. Правда, было одно обстоятельство, которое меня могло смутить: в том же 1938 году, несколько месяцев назад, Флор сам договаривался с Алехиным о матче, но позднее родина Флора оказалась в таком трудном положении, что шансы на этот матч свелись к нулю. Со стороны любого другого шахматиста в аналогичных случаях вряд ли можно было рассчитывать на доброжелательное отношение. Но я справедливо полагал, что Флор будет выше мелочного эгоизма (курсив мой; это не «мелочный эгоизм», это драма в самом чистом и жестоком виде! — В.М.). Так оно и вышло: он сразу согласился сопровождать меня, понимая всю затруднительность моего положения».
4
Неизбежность утраты Чехословакии, ставшей добычей нацизма, и всего, что с ней было связано в жизни гроссмейстера, — скорее всего, это действительно контрапункт всей драмы Флора. Он знал, что уже ничего не сможет повториться. Ничего! Об этом они нередко говорили с Кересом. Дорога в будущее, которое еще недавно явственно вырисовывалось, для Флора была перекрыта. У него в тетрадке рядом с его собственными словами: «Война подорвала мое здоровье, расшатала нервы» — были заготовлены для задуманного очерка (так, увы, и ненаписанного — в который раз ненаписанного!) слова Эриха Марии Ремарка: «Война — это клетка, и тому, кто в нее попал, приходится напрягать нервы, ждать, что с ним будет дальше. Мы сидим за решеткой, прутья которой — траектории снарядов, мы живем в напряженном ожидании неведомого. Мы отданы во власть случая». Эти слова у Флора, как я помню, были подчеркнуты красным карандашом и выделены восклицательным знаком. Удивительно, до чего же перекликается со словами Ремарка письмо, посланное на исходе 1938-го из Праги гроссмейстером Рудольфом Шпильманом председателю Шведского шахматного союза и издателю шахматной литературы Людвигу Кольину, где, в частности, говорится: «Мне грустно не только из-за того, что я изгнан из Австрии, моей родины, — к тому же я утратил возможность свободно перемещаться. Едва ли не все страны, в которых существует шахматная жизнь, закрыли свои границы перед эмигрантами и беженцами. Ни в одну из них я уже не могу попасть с моим австрийским паспортом, ничего теперь не стоящим…»
Бог знает, как бы все повернулось, если б амстердамский триумфатор Пауль Керес не встряхнул по-дружески Флора: ну-ка, не вешать нос (с кем не бывает?!) и собирайся в Тарту — поедем к нам, проветришься...
«В те дни, — рассказывает Сало Флор, — мы с Паулем Петровичем, оставшись наедине, слушая по радио, что происходит в Праге, говорили меньше о шахматах, больше — о том, как сложится наша дальнейшая с Раисой Ильиничной судьба. И — никаких конкретных вариантов. Ни одного. Броситься вслед за Шпильманом? Полное безумие! Я бы мог повторить отчаянные слова Алехина: меня разорили две войны. Но я к тому же был евреем — и об этом не забывал ни на минуту. Я был разорен еще больше, чем Александр Александрович, я был просто гол как сокол. Все мое добро, мой дом остались в Праге. Гитлер уже заявился там, и на флагштоке Императорского замка в Градчанах взмыл флаг со свастикой. Я сказал Паулю, что, скорее всего, в Москве мне пообещают вид на жительство в СССР. Он, не задумываясь, ответил: „Ну, это, дружок, тоже не лучший вариант!“ И в его голосе звучала убежденность. Я был согласен с Кересом. Как не согласиться... Но какими другими вариантами я располагал? Мы с Раисой Ильиничной понятия не имели, как все у нас сложится, если откажемся от России. Она-то и не сомневалась, что дорога у нас одна-единственная — в Москву, настаивала на этом. Мы все чаще ссорились. Хотя о чем тут было спорить? Но я все еще сомневался. Пауль меня успокаивал. Главное, говорил он, — чтобы мы живы остались».
...«Гитлер как будто преследовал меня по пятам», — с горечью говорил Сало Флор. Огонь войны бушевал уже всюду. После Англии, которую стали бомбить (вечная память тебе, легендарная Вера Менчик, погибшая во время бомбежки Лондона!), после Голландии, которая почти мгновенно выбросила белый флаг перед гитлеровцами, после Швеции, пронацистски настроенные руководители которой вослед за Норвегией могли капитулировать, Флору пришлось-таки искать защиты от гибели в СССР. «Это единственное, что тебе остается сделать, — сказал ему на прощанье Керес, когда они встретились в очередной раз. — Скорее всего, Рая права. Я предложил бы тебе остаться в Эстонии, но… здесь ты угодишь в гестапо раньше, чем в Швеции. Не теряй времени. Беги, пока не поздно».
(Заметки на полях. В годы войны Керес, чтобы заработать на жизнь, играл в немецких турнирах, а летом 1944-го — в нейтральной Швеции. Слово Флору:
«Мог ли он там остаться — ну как вы думаете? Без пяти минут чемпион мира! Конечно, мог бы. Ему там были по-настоящему рады. О нем писали все шведские газеты, печатались его портреты. Но у Пауля в Эстонии была семья: жена Мария и двое совсем маленьких детей: сыну — два годика, дочери — девять месяцев. Он жить без них не мог! Он знал: войдут в Эстонию советские войска — и тогда ни его туда не впустят, ни их оттуда ни за что не выпустят.
И он, на удивление всем, рискуя собой, оставил благополучную Швецию: скорее — к своим! Они ему были дороже всего на свете. Это был благороднейший и отважный поступок. Не обо мне Стэнли Крамеру сделать бы фильм, а о Кересе. Вот это сюжет! Паулю кто-то из эстонцев с высоким положением сказал, что на западное побережье из Швеции прибудет катер — и надо успеть на него. Я обо всем этом услышал не от самого Пауля, а от его замечательной Марии Августовны: „Я чувствовала, что время стремительно уходит, перестала плакать и говорю Паулю: твою работу обязательно посчитают изменой, а уж как поступят — легко догадаться. Так что… поехали!“
Все были в напряжении, нервничали, старались не разговаривать. Отправились в путь на поезде, потом их везли на грузовике. Была холодная сентябрьская ночь. Пауль переживал из-за детей: как бы не заболели, как бы с ними чего-нибудь не случилось… Откуда-то доносились отзвуки перестрелки и артиллерийские залпы — там шел бой. Прибыли на побережье без особых приключений; спрыгнули с машины и побежали к причалу. Все-таки надеялись на скорое спасение. Но катер все не приходил и не приходил. Кто-то сказал: „Напрасно ждем. Момент упущен. Слышите — стреляют уже где-то совсем рядом с нами“. В небо то и дело взлетали ракеты. А через полчаса их группу окружили советские солдаты. Многих тут же арестовали и увезли…»
Что было потом? Керес стал объектом внимания НКВД. Его вызывали на допросы. Флор очень беспокоился за жизнь своего друга: «Пауль Петрович вынужден был написать в Москву письмо, прося защиты и покровительства (представляю, чего это ему стоило). Ответа не было, и преследования продолжались: назревала расправа. И тогда Керес написал лично Молотову и попросил у того заступничества. Это послание, как думает Пауль, в конце концов сыграло решающую роль в его судьбе».)
Флор последовал требованиям Раисы Ильиничны: он оказался в СССР на правах «соискателя». Его отправили поначалу в Среднюю Азию.
«Там, — говорит он, — я узнал, что представляют собой председатели горсоветов, секретари горкомов и райкомов, какая власть у них в руках, как распределяют они талоны на продукты питания и как от них зависит жизнь людей, буквально каждого человека. Меня „прикомандировали“ к группе шахматистов, мы бывали в госпиталях, давали там сеансы одновременной игры раненым бойцам; в одном из госпиталей я видел читающую стихи Анну Ахматову; ее даже хотели познакомить со мной, но что-то помешало, пришла целая группа врачей... Потом вдруг меня с женой срочно вызвали в Тбилиси. Оказалось, что тут постарался мастер Виктор Гоглидзе, с которым я играл на Втором московском международном турнире. Его брат, Сергей Арсентьевич, занимал очень высокую должность: кажется, был заместителем у самого Берии. Поэтому Виктору, в принципе, было доступно многое. Мы с Раисой Ильиничной очень радовались: в Грузии была совсем другая жизнь... Хочу уточнить: советским гражданином я стал отнюдь не в 1939-м, и не в 1940-м, и даже не в 1941-м. Вот почему нас, как привилегированных, поселили в тбилисской гостинице „Интурист“ — мы ведь тогда проходили еще по разряду иностранцев: паспорт у меня был пока чехословацкий.
Однажды позвонил Виктор и говорит: „Сегодня вас, Саломон Михайлович, примет первый секретарь ЦК республики. Будьте готовы к семи часам вечера. Я за вами заеду. Все будет хорошо — поверьте мне“. Я у него спросил: могу ли я взять с собой Раису Ильиничну? Он ответил утвердительно: конечно! Виктор и заехал за нами, и привез для Раи новое, очень красивое платье. На приеме Виктора почему-то не было, он ожидал нас внизу, недалеко от здания ЦК. Собралось человек около тридцати. Был накрыт очень богатый стол (по тем временам — просто сказочный). Все разговоры велись часто на русском языке — наверно, ради меня!
Неожиданно ко мне подошел первый секретарь, пожал мне руку: „Это вы — Флор?“ Я не стал отрицать. „Вы меня обыграете в шахматы, — сказал он, — а я вас — в нарды. Но сейчас — не до игры. Не такое теперь время“. И, стоя рядом со мной, он произнес тост: „Выпьем за нашего дорогого товарища Сталина!“ Хозяин Грузии чокнулся со мной. Попробуй не выпить — бед не оберешься. Думаю: что со мной сейчас произойдет? И все равно я выпил свой стакан вина до самого дна — а что мне еще оставалось?.. Мне на этом приеме сказали (по секрету, как большую государственную тайну!), что завтра-послезавтра я стану гражданином Советского Союза.
И точно: мне вручили советский паспорт (шел тогда сорок второй год), после чего, как мне было срочно объявлено, я уже перестал быть иностранцем и лишился права пребывания в „Интуристе“. В общем, мы с Раей вполне могли оказаться на улице. Но тут примчался Витя Гоглидзе — именно примчался: он уже прослышал о случившемся. Я-то думал, что он будет возмущаться, ругать директора отеля, но он только расхохотался: „Кто бы такое мог себе вообразить! Гроссмейстера Сало Флора выставили из гостиницы! Анекдот!“ Еще минуту назад я не знал, что мы будем делать, где будем ночевать, но Виктор успокоил нас: „Не волнуйтесь, друзья, все в порядке!“ Нас приняла семья Гоглидзе. Представляете, какой момент?! Раиса Ильинична даже пустила слезу. Приютили нас в доме на улице Барнова, 13, в двухкомнатной квартире. Виктор был человеком очень скромным: другой — при его-то связях — имел бы целый дворец, а тут — небольшая квартирка. Я испытывал неудобство: как же так, говорю, мы стесним вас. А он отвечает: „Ерунда! Мы очень рады вам. Вы будете нашими гостями“. Я счастлив, что оказался в годы войны в Тбилиси!»
5
Какую Чехословакию вынужден был покинуть Флор? Что он потерял? В поисках ответа на этот вопрос нам следует обратиться к одному из выступлений первого ее президента Масарика. «Нашим политическим заданием, — говорил он, — является строительство демократической республики. При демократии вопрос о правлении решается голосованием. Именно поэтому сегодня так важна избирательная система. <...> Демократия — это не только форма государства. Это способ всей общественной и частной жизни. Демократия является взглядом на жизнь. Сущность государства — согласие всех людей, их мирное сосуществование, любовь, человечность. <...> Сознательное политическое руководство предполагает единство граждан в главных принципах и в главных направлениях политического движения. Государство — это не только механизм. Политика — не только искусная административная и дипломатическая техника. Государство — единство граждан на разумных и нравственных основах». Мир, в котором жил Сало Флор, в отличие от сталинской империи, был свободным: там утверждалась демократия, главной целью там объявлялось экономическое благополучие.
(Заметки на полях. Летом 1959 года Флор был в Швейцарии, где проходил крупный международный турнир, посвященный 150-летию старейшего в Европе Цюрихского шахматного общества. Флор приехал вместе со своей Раисой Ильиничной. Он подвергся не только приступу ностальгии — ах, молодость, ах, Цюрих тридцать четвертого, — но и атакам со стороны разгневанной супруги. Жена пилила его: «Подумаешь, увидел снова Альпы, швейцарские всякие прелести — и раскис, размяк, потянуло к прежней жизни моего чеха. Да какой же ты мужик, сразу о Москве забыл!» У него слезы на глаза навертывались. Они беспрерывно ссорились, подолгу не разговаривали друг с другом... Воздух Швейцарии подействовал на Флора, как в фильме «Семнадцать мгновений весны» — на профессора Плейшнера. Он не верил в «оттепель». Он знал, что на внеочередном XXI съезде КПСС Никита Хрущев в жесткой, традиционной манере говорил о необходимости укрепления органов госбезопасности и не допускал мысли об их ликвидации: «Это было бы глупо и преступно!» В Цюрихе Флор чуть было не «сдался»…)
Почему Флор после войны не вернулся в Чехословакию? Ведь его тянуло туда, к себе домой, тянуло неимоверно! Александру Котову удалось в романе «Белые и черные» показать, чем была Прага в жизни Сало Михайловича, — и показал он это через Алехина, весной 1938-го пожаловавшего в столицу Чехословакии, чтобы встретиться с симпатичнейшим Сало в кафе Ambassador. Остановимся лишь на таком фрагменте: «Дважды обошел Алехин вокруг Вацлавской намнести. Вдруг за стеклом одной из витрин магазина он увидел знакомую фотографию. „Опять“, — подумал Алехин, и его невольно охватило чувство досады и зависти. Подойдя поближе, он увидел большой портрет Флора, водруженный над целой пирамидой ботинок фирмы Batya. Огромный плакат перерезал наискось окно, крупные буквы призывали чехов: „Покупайте ботинки фирмы Batya, именно нашу обувь носит Сало Флор“. Всего час назад Алехин видел такой же рекламный призыв на окне магазина мужских сорочек, раньше он встречал такие же витрины с выставленными напоказ „флоровскими“ тапочками, одеколоном, сигаретами, хотя Флор никогда в жизни не курил. <...> Популярности Флора в родной стране — вот чему завидовал чемпион мира. Чехи на руках носили своего любимца, он был их кумиром, национальным героем. В газетах, журналах, в витринах магазинов часто можно было увидеть его портрет с наивной улыбкой ребенка и морщинками в уголках глаз. Каждый успех Флора, каждая его неудача чувствительно переживались не только отдельными любителями. Волновалась и „болела“ буквально вся страна. „Как там наш Сало? Браво нашему Флорику — опять он победил!“ — только и слышал Алехин во всех уголках страны».
Так отчего же Флор не возвращался? Этот вопрос может задать тот, кому неизвестно, что творилось в его бывшей стране в послевоенное время. Там свирепствовали репрессии, ничем не уступавшие сталинским. Никто этого и не скрывал. До Флора доходили слухи — один страшней другого: немцы и венгры депортируются, раскрыт «заговор» в Словакии, Масарик и Бенеш изобличены как «лакеи империализма», любая мало-мальская оппозиция искореняется, подавляется, ведется «чистка» в редакциях газет, в учебных заведениях, в учреждениях. На этой мутной волне всплыл позже и Людек Пахман. О его шахматном даровании заговорили многие. Но заговорили с ужасом и о том, что Пахман стал активнейшим «бойцом за социализм».
— Что произошло тогда с людьми? — недоумевал Флор. — Я просто не узнавал некоторых из них. Подменили их, что ли! А Пахман? Бред какой-то. Нашел мой адрес, стал мне писать, добиваться встреч со мной. Одно и то же: возвращайтесь, soudruh Флор, мы примем вас в свою партийную ячейку, будем бороться вместе за светлые идеалы человечества, и не надо держать зла на советских шахматистов за то, что они по решению вашей партии обязаны помогать Михаилу Ботвиннику и не имеют права конкурировать с ним; главное — противостоять Западу, а это Ботвинник понимает лучше всех. Поучал он меня, как маленького, хотя моложе меня на целых шестнадцать лет! Убеждал: soudruh Флор, люди становятся другими, они живут новыми идеями, мы победим во всем мире! «Мы» — надо же придумать…
Звонки, письма, телеграммы Пахмана (как писали в западной прессе, «одной из зловещих фигур готвальдовского режима») травили душу Флора, хотя и не было причин бояться этих «связей»: не тот случай. Скомпрометировать они не могли. Тогда Пахман был у нас, разумеется, в фаворе. Но Сало Флор упорно не отзывался на приглашения. Перебежчиков не любят, к ним относятся подозрительно. Почему, спросят, покинул Советский Союз? Чем тебе там не угодили? В Праге — те же гэбэшники. От них ведь нигде не скроешься. Везде разыщут. Какой смысл менять шило на мыло? Может быть, тогда Флор и уверился, что социалистический лагерь — это и есть лагерь. В общем, «рыпаться» он не собирался. О «длинных руках» чекистов наслышался он немало…
Само собой, позже он гостил в Праге, у Нины и ее мужа профессора Алоиза. Здесь Сало Флору становилось спокойнее. Но — ненамного. Страх и здесь его не покидал. И Раисы Ильиничны он все больше побаивался, с нетерпением ждал, когда она отправится за покупками или просто на прогулку. После разгрома Пражской весны он чуть ли не шарахался от друзей Пахмана, которые искали «влиятельного» человека, чтобы тот облегчил участь Людека. А уж самого Пахмана, когда того вдруг выпустили из тюрьмы, старался избегать. Пахман звонил, и Нина, прикрыв трубку ладонью, вопросительно смотрела на Флора: «Будешь говорить?» Он в ответ в замешательстве махал руками: «Нет, нет, ни за что!» Срывался с места, глотал таблетки…
Встретишься с Людеком — возьмут тебя тут же «на заметку». Это уж точно. Пахмана, этого ярого правозащитника, объявили лютым врагом Советского Союза, игнорировали, поносили последними словами. Керес в 1969-м, «утратил бдительность», «не проявил принципиальности»: согласился пойти пообедать в ресторан вместе с Людеком и его друзьями. Свидетельствует гроссмейстер Виктор Корчной: «Наутро в аэропорту нас уже провожала группа советников посольства в штатском. В Москве Кереса тоже окружили особым вниманием и прямо из Шереметьева повезли на беседу». Куда повезли — ясно. И чем это обернулось для Кереса? Ему пришлось давать «объяснения» сотрудникам КГБ. Допросам не было конца. Следователей интересовали «подробности». Словно возвратились тридцатые годы. Пауль Петрович пребывал в подавленном настроении. Флор сочувствовал своему другу, у которого сразу появились проблемы с поездками на турниры, да и другие неприятности…
Но ведь вся эта невеселая, да что там — трагическая и многоликая жизнь не воплотилась во флоровском слове. Жаль. Очень жаль.