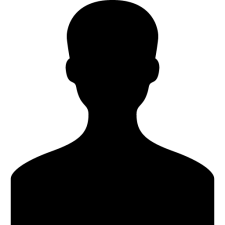Автомобиль нас ждет. С трудом проталкиваемся — столько тут беженцев, как мы: и семеновцев, и чехов, и добровольцев.
Едем и останавливаемся у двухэтажного дома. Через дворик попадаем в другой дом, поднимаемся по лестнице, майор Кошек открывает двери, и мы попадаем в настоящую удобную квартиру. В двух комнатах помещается майор со своей канцелярией, остальное все наше. Салон обставлен на скорую руку, мебель в нем довольно театральная, красный штоф и позолота — стиль ампир, но после теплушки это великолепие нас поражает, а главная роскошь в квартире — ванная.
С утра мы занимаемся устройством нашего гнезда. Нужно повесить шторы, постелить, где надо, салфетки, на обеденный стол поставить примулу, купленную в цветочном магазине.
Чита — город маленький, дома в нем невысокие, не успели мы пройти несколько улиц, как попали в сосновый лес. Музей в Чите — сокровищница, собранная кропотливо чьими-то любящими руками. Пробежали отдел ценных минералов и попали в отдел этнографический: старинное оружие, стрелы и луки времен татарского ига, покорения Ермаком Сибири, серебряные и медные монеты различных форм и величин и, наконец, отдел бурятский. Фигуры бурят в полный рост наглядно рисуют их быт, одежду, шалаши, покрытые шкурами зверей, оленя в упряже и узкие легкие сани. Жуткая в экспозиции фигура шамана-кудесника. Цветными красками размалевана маска. Заведующий музеем старичок-профессор Кузнецов охотно нам рассказывает о том, что буряты буддисты, отвечает на задаваемые нами вопросы и, наконец, ведет нас в свое «святое святых» — в отдел декабристов. Под стеклом разложены письма их и их жен, фотографии, предметы домашнего обихода, например деревянная подставка под библию, рамы для икон, переплеты для книг — все это сделано их собственными руками.
Видя мой горячий интерес к декабристам, профессор предлагает мне прийти утром пораньше, когда почти не бывает посетителей, и подробно заняться чтением их писем и рукописей. И вот на другой день утреннее яркое солнце проникает через высокие окна музея и бликами стелется на ярко крашеном полу. В руках у меня пожелтевшие письма княгини Екатерины Трубецкой. Уезжая в Сибирь, она остановилась проездом в Москве у своей сестры, урожденной Раевской, у нее она слышала стихи Пушкина, посвященные узникам, и романсы Глинки. Письмо ее дышит нежностью и любовью. А вот и ее портрет с собственной подписью... Часы бегут. Тихими шагами в мягких войлочных туфлях ко мне подходит профессор: «Ну вот и приходите всегда по утрам, поможете мне разобраться в новом материале». Все его лицо в ласковых морщинках улыбается, добрые голубые глаза блестят приветом.
ЛЮДИ И ВСТРЕЧИ
В гостиной у нас оживленно, майор Кошек познакомил нас с поэтом и писателем Котомкиным-Савицким, который в настоящий момент занимается переводом на русский язык чешского писателя Чапека и поэта Медека. Пригрелся у нас и журналист Финк, облюбовав себе кресло у печки, утонув в нем чуть не с головой. У него всегда при себе блокнот и острый карандаш, он часто что-то пишет или записывает. Бывает у нас и капитан Иха, блондин с орлиным профилем, саженного роста. Он прекрасно владеет французским языком, рассчитывает попасть в Париж и устроиться там в чешском посольстве, для этой цели он легко заводит необходимые связи. В нашем калейдоскопе вертится и Leutenant de cavalerie grec — некто Кахаоглыб, он как будто тоже метит в дипломаты. С тех пор как Сергей Николаевич Войцеховский, бывший генерал-штабист, назначен был velitelem Чехословацкой армии, Чешская армия разительно изменила свое лицо. В ней появилась выправка и военная дисциплина. В серой генеральской, мирного времени шинели, с красными генеральскими отворотами, Войцеховский часто проносится в автомобиле по улицам Читы. Он очень энергичен и при ближайшем знакомстве обаятелен и очень остроумен.
Не менее симпатичен и полковник Червинка в красных гусарских рейтузах. Как смелый офицер, он проявил себя при отступлении — дрался с большевиками, прикрывая своим полком отход чехословацких легионеров. Из иностранцев колоритна фигура vicont`a de Cossett, это слегка седеющий, подтянутый и всегда приветливый полковник.
Из окон нашей квартиры мы видим подъезд, где помещается штаб атамана Семенова. Часто к этому дому подъезжают автомобили иностранных миссий, и из них выходят различные личности и исчезают в подъезде. На днях в воротах нашего двора случайно я столкнулась с атташе французской миссии vicont`ом de Cossette. Он узнал меня, приветливо протянул мне руку и улыбаясь произнеc: «Bonjour madmasellt, jt suis content, je suis content de vous voir», — но не успел закончить фразы, как мы оба в этот момент были оглушены треском мотоциклета и должны были посторониться и уступить ему дорогу. Мотоциклетом управлял какой-то казачий офицер, а в прицепной коляске сидела дама в белой меховой папахе. «Regardez m-lle,quelle belle femme est cette fameuse Masha», —говорит мне viconte de Cossette. Я смотрю на нее и действительно поражаюсь ее красотой. Такие красивые лица, должно быть, врезаются в память навсегда. Эта черноглазая певица цыганка Маша — подруга атамана Семенова. Она некоронованная царица Забайкалья. Атаман Семенов — Соловей-разбойник, как его называют его враги — исполняет каждый ее каприз, у нее и брильянты, и драгоценные меха. Хорош наш белый вождь — он, правда, первый собрал воедино казачество при поддержке японцев, хорошо вооружил и при помощи своих танков борется с большевиками, однако окружил себя головорезами или соратниками вроде барона Унгера — жестокого садиста, имя которого приводит в трепет все население Забайкалья и Дальнего Востока. Личность атамана не популярна, он дискредитировал себя расстрелами, запятнал свои руки народной кровью. Власть его не долговечна. Весь его штаб вместе со своим вождем занят развратом и попойками. Однажды атаман приехал на автомобиле к своему дому, шофер проворно распахнул дверцу автомобиля, и оттуда, поддерживаемый с обеих сторон под руки двумя казачьими офицерами, буквально вывалился пьяный атаман Семенов. Безобразное, одутловатое не лицо, а маска, бледная от кутежа и беспрерывного пьянства.
Полковник царской армии Сыробоярский в ответ на предательство Колчака вызывает генерала Сырового на дуэль, помещая свой смелый вызов в местной газете, и начинается он следующим заголовком «Генерал, к барьеру!» И что же на это Сыровой? Он трусливо молчит и ни словом не отвечает в ответ. Последнее время он сильно постарел и обрюзг, форма сидит на нем неуклюже, пояс одет слишком высоко, не по-военному, подчеркивает круглое брюшко. Невзрачная личность, сугубо штатская.
В пестром калейдоскопе проходят личности, часто по нескольку раз, часто мелькнут и исчезнут, как марионетки — не как актеры, но как статисты в забавном фильме.
После обеда мы в последний раз сидим за кофе с капитаном Кохаоглы, который уезжает из Читы. Зачем-то мы с ним встретились, ближе познакомились, чтобы вот уже сегодня наши пути-дороги разошлись в разные стороны. Капитан прощается со всеми нами, целует маме руку в прихожей и надевает свою франтоватую шинель и фуражку — и его уже нет. На улице метель подхватывает его, снежная буря закрутила, замела, унесла из нашей жизни навсегда.
Также и 2-й батальон с Пепой уехал на восток, и штаб 6-го полка с майором Покорным с третьим звонком покинул нас, расстался с нами, может быть, навсегда. Зачем же судьбе нужно было столкнуть нас вместе, что-то пережить, перестрадать. Покинули нас наши друзья, оставив нас в этой неспокойной Чите — с тревогами и предчувствием неизбежных бурь и огорчений.
Полковник Колчаковской армии Малиновский остановился в гостинице «Селект». «Он может дать нам сведенья о Нике, — оживилась Ляля. — Я не верю в слухи, может быть, его и Колчака судили, приговорили к заключению, но не расстреляли!» И вот мы вдвоем идем к полковнику Малиновскому, который только вчера приехал в Читу и сам являлся свидетелем всех политических событий, м.б., чудом уцелев от ареста и расстрела. На наш стук в дверь нам отворяет еще не старый полковник, по-видимому, еще не успевший достаточно отдохнуть от тяжелого пути, со следами утомления на лице, говорит нам «войдите» и поднимается нам на встречу из-за большого письменного стола. К сожалению, у него точных данных после выдачи Колчака чехами нет, все трое — адмирал Колчак, министр Пепеляев и личный адъютант Колчака сотник Рыжков — находятся в Иркутской тюрьме и отданы под суд. «Дальнейших сведений у меня нет, — повторяет он, но, видя, что Лялино лицо краснеет от волнения и на глазах появляются слезы, полковник добавляет: — Но отчаиваться еще рано, правда, милости от них ждать не приходится, но не все еще потеряно...»
Итак, мы не знаем, живы ли узники или нет. Что думали, что переживали они, попав в тюрьму?.. Может быть, Колчак, видя из тюремной камеры клочок неба, тоскуя, вспоминал свой любимый романс:
Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда!
Пройдут когда-нибудь революционные годы и Россия вспомнит, в какую тяжелую годину Родины Колчак взял на себя невыносимое бремя власти, какой тяжелый крест взвалил на свои плечи и умер ли он, если они расстреляны руками палачей, как герой за идею и за Россию.
ГЕНЕРАЛ КАППЕЛЬ
Генерал Каппель отступал с армией, совершая легендарный Ледяной поход, большую часть пути верхом на лошади, отморозил себе обе ноги, переходя вброд ледяную реку и не желая занимать место на подводе — он отказался в нее перебраться, уступая место раненым и больным добровольцам. Перемогаясь, он ехал верхом, но когда стало невмоготу, он упал в снег и потерял сознание. Началась гангрена, жар, беспамятство. Так, не приходя в себя, он и умер. Длинный путь его везли с собой каппелевцы, которые отстреливались, преследуемые большевиками и партизанами. Многие замерзали и, умирая, просили себя подстрелить, чтобы как можно скорее пресечь свои страдания, но многие, изнемогая от смертельной усталости, доплелись до Читы.
Холодно. Сумерки. В казачьем соборе деревянный гроб, покрытый русским национальным флагом, у гроба генерала Каппеля несут караул офицеры. Мигающие свечи освещают бледное восковое лицо, черная борода еще резче подчеркивает эту смертельную бледность. Лицо спокойно, и нет на нем и тени от пережитых страданий. Он почил, окован вечным покоем. Он до конца выполнил свой долг офицера — спасение горсточки армии, вверенной роковой судьбой в его руки. Он до последнего вздоха сохранил свою офицерскую честь.
Зимой Чита неприветлива, особенно когда заметет пурга, завеет ледяным ветром с пустыни Гоби, забьет лицо снежной пылью и песком. Даже дышать от ветра тяжело. Как ни ежится бедняга японец-часовой, но ему все равно не согреться, продрог он до костей, до отчаяния, и когда-то отогреется — неизвестно. Улицы пусты, все попрятались, кто мог, выйти в такую погоду — сущее наказание.
ПОЕЗДКА К БУРЯТАМ
Не вечно же продолжается зима? По утрам все больше и больше светит солнце, и тогда жизнь кажется уже не такой мрачной: снег сверкает, искрится и во всей природе чувствуется дуновение весны. На двух тройках, с майором Кошеком, капитаном Ихой и журналистом Финком, мы едем в гости к бурятам, в самую глубь степей и к самому подножью Яблоного и Станового хребта, за 25 верст от Читы.
Бурят начинают жестоко притеснять местные власти, семеновцы-казаки угоняют скот, отберают запасы сена и зерна, производят суровую реквизицию — а все достояние бурят в скоте, в табунах коров, коней и баранов. Народ они мирный, но обиды терпеть им стало совсем невмоготу. Как и чем жить, если так пойдет дальше? Тревога не дает покоя, что же дальше остается делать, хоть бросай свои обжитые жилища, собирай кое-какой скарб, кочуй со скотом, беги из Монголии к чужим китайским границам. Может, чехи чем помогут? Пошлем к ним делегата, грамотного, бывалого, помогите и пожалуйте к нам в гости, будем счастливы принять дорогих гостей. И вот мы и едем в широких санях, и везут нас ямщики-буряты на лучших своих лошадях. Навстречу нам веет весенний ветер, солнце постепенно растапливает верхний хрупкий слой плотной снежной пелены. Степь кругом как безбрежное море, только где-то там, в бесконечной дали, темнеют горные хребты.
Едем, и вот цепи гор приблизились, затем подошли почти в плотную и как кольцом нас окружили. Остановились мы в поселке, вышли из саней. Нас, по-видимому, ждали, и целое племя бурят вышло нас приветствовать из своих деревянных жилищ. Староста с поклоном пригласил нас в свою просторную избу. Буряты — буддисты. В правом углу горницы на подставке возвышается их деревянный божок, бог-покровитель домашнего очага. Курятся ароматные травы, дымок, как фимиам, поднимается вверх и застилает фигурку бурятского бога, неприхотливые дары верующих: бумажные цветы, ленты и тарелки с рисом и прочей снедью.
В избе длинный стол покрыт полотняной скатертью. Нас просят к столу и угощают пельменями, ведь пельмени — их национальное блюдо, и пришло оно из Монголии, а может быть, из далекого Китая. К пельменям из сочного бараньего мяса — в глиняных чашечках саки. Сосед мой слева — бурят, окончивший в Москве юридический факультет. Несмотря на свое образование, ни на материальные блага и ни на городскую культурную не прельщается. Он остается верен своему народу и его традициям, он возвращается в свою деревню к примитивному образу жизни, должно быть, не найдя счастья в цивилизованном образе жизни — родные степи ему оказались ближе чуждых по духу городов.
Мужчины, женщины и дети теснятся в дверях, с любопытством нас рассматривают, вслух делятся своими впечатлениями и улыбаются своими скуластыми и добродушными лицами.
После обеда мы снова выходим на общественный двор. На распряженном возу, нагруженном доверху стогом сена, высокий и стройный бурят в синем кафтане, подпоясанном красным кушаком, в круглой меховой шапочке, ловким движением захватывает на вилы сено и легко его забрасывает на сеновал. На фоне ярко-голубого неба он своеобразно колоритен. Чем же нас еще хотят приветствовать наши новые друзья-буряты?
«Теперь обратите свое особое внимание, — говорит наш интеллигентный гид сан Пиро, — сейчас вы увидите воочию шамана». Толпа бурят напряженно кого-то ждет, и действительно с горной тропинки спускается медленно, неуверенно держась на ногах, старик. Сколько ему на вид лет — восемьдесят, а может быть, и все девяносто? Он в невзрачном серо-коричневом армяке, в остроконечной меховой шапке, в войлочных туфлях. Толпа бурят моментально расступается и, как по команде, становится кругом. Шаман выпрямился, подпрыгнул и пошел по кругу. И откуда только взялась и ловкость, и сила в этом несчастном, тщедушном теле? Он то кружится волчком, то несется в дикой пляске, то бежит стремительно по кругу и вдруг внезапно останавливается и начинает что-то быстро бормотать, пророчить, «шаманить», кому-то грозить и на кого-то сердиться. Седые пряди повисли и растрепались, глаза горят, как будто в него вселился дьявол. Жутко, но вот его выступление кончилось — его куда-то отвели.
Солнце пурпурным шаром закатывается на горизонте. Небо пылает Северным сиянием, вспыхивая яркими лучами. Однако сумерки наступают быстро.
Майор Кошек сердечно прощается с бурятами, подробно их проинформировав о создавшемся положении, м. б., дав им разумные советы, что им делать и есть ли какой смысл бежать куда глаза глядят на полную неизвестность. Небо гаснет. Сумерки окружают горы. Ламы (священники) дарят нам на память голубые шелковые ленты, на которых написаны бурятские изречения. Мы сердечно их благодарим и, в свою очередь, приглашаем к себе. Снова нас поглощает степи, бескрайние дали, тишина и молчание гор, которые все дальше и дальше от нас отдаляются и, наконец, исчезают — растворяются в тумане.
Сложное политическое положение окончательно завело нас всех в тупик. Атаман Семенов крепко держит, при поддержке японцев, в своих руках Забайкалье и его терроризует. Власть Семенова не долговечна. С таким «вождем» надеяться не на что. Чехи и союзники уезжают на Восток. Чита постепенно пустеет. Жизнь затихает, прислушивается к грядущему, чего-то напряженно ждет.
На окраине города в небольшом уютном домике обосновался скульптор Жуков. Кажется, ни оглушительный гром революции, ни ломка жизней, ни даже мертвая хватка не на жизнь, а на смерть не выводят его из рамок его богатой душевной жизни. Из зеленовато-желтой глины он творит чудеса: две птицы, обнявшись крыльями и прижавшись друг к другу, с бесконечно печальными человеческими глазами изображают «Одиночество». Может быть, это символ наших трагических дней? Может быть, символ нашей революционной эпохи? «А вот моя последняя работа», — говорит скульптор и ведет нас показать нам свой шедевр, свою чудесную композицию «Гаммы моей души» — изящное ожерелье из головок: сколько лиц, столько и настроений. Одно изображает грусть, страдание, другое прелестное личико смеется, улыбается, и все ожерелье вместе созвучно, как одно музыкальное творчество.
Жизнь наша, как каждая молодая жизнь, полна красками и воспринимается нами остро, мы жадно впитываем все впечатления, и эти яркие картины нашей жизни остро врезаются в память. Дни бегут не праздно, мы с сестрой стараемся усовершенствовать наши знания французского языка и вместе с капитаном Ихой берем уроки практики у француза Поль Мари. Семья его снимает номер в гостинице «Селект», у них маленькая дочка Madlene, бледненькое и слабенькое существо, ей, по-видимому, не хватает солнечного детства. И вот, несмотря на то, что мы как будто вошли в определенную колею, в одно прекрасное утро, когда мы пили кофе, слушали, о чем говорят родители, близко воспринимая их заботы «что же нам делать дальше?» — почтальон принес телеграмму от папиного компаньона по кожевенному заводу Рандрупа: «Кожа продана, японские иены помещены в International Bank of England».
Сомнений нет, конечно, ехать дальше на Восток. Мы вновь обеспечены — заботы наши отпали. Родители решают быстро: завтра же мы садимся в экспресс и вместе с майором Кошеком уезжаем из Читы, которая рано или поздно перейдет в руки большевиков.
Последний вечер, когда родители ушли в свою комнату, мы, т. е. я, сестра и Кошек, остались одни. Майор открыл бутылку вина и банку ананаса. Тревоги наши позади. Куда мы, собственно, едем? В Китай, затем в Японию и, наконец, в Европу?
«Ты понимаешь ли, Ляля, что значит видеть море и иные страны? — обращаюсь я к сестре, пьянея от внутренней радости и от бокала вина. «Да, путешествовать — это счастье!» —вторит мне Ляля, на время забывая и свое горе и потерю Ника. «Сегодня я почему-то способна обнять весь мир...» — продолжаю я. «Ну вот и обнимите меня для начала и крепко поцелуйте! — шутит Иосиф Ярославович, целиком заражаясь нашим настроением. — Давайте выпьем за нашу бурную молодость, которая, несмотря на все переживания и бури, все же очень хороша!» Сегодня я сестры не узнаю: несмотря на внутреннюю рану, которая еще не успела зарубцеваться, несмотря ни на что, с дуновением весны она медленно начинает приходить в себя. На осунувшемся и похудевшем лице появился румянец, глаза начинают приобретать потерянный блеск. Беседа наша задушевна: «А помните, Иосиф Ярославович, как мы жили в Омске, наш сад, террасу, наши ни с чем не сравнимые вечера?» «Да, девочки, такую жизнь я не забуду никогда, она уже неповторима! Если бы одна из вас ее описала, как роман — попробуйте, запечатлейте ее навсегда… Уже второй час ночи, однако же, мы засиделись! А ведь завтра полно суеты. На завтра назначен день отъезда».
СОПКИ МАНЧЖУРИИ
В открытое окно вагона рывками врываются порывы ветра. Весеннее солнце слепит глаза. Равнина без конца и края — только там, далеко на горизонте, маячат неприступные горы и сопки Манчжурии. Вот она, долина Лаояна, когда-то залитая русской и японской кровью. Лаойян-трава вышиной почти в человеческий рост — китайцы ее сушат, прессуют и ею отапливают свои жилища. На рисовом поле двухколесные арбы, запряженные мулами или волом, китаец с длинной косой, в синей курме, терпеливо возделывает свое поле, нередко ему помогает его жена, неустойчиво держась на своих с детства искалеченных крохотных ступнях… Какие чистые белые фанзы, и дворы тщательно заметены. На станции Хайльф оживленно, гортанно кричат продавцы газет и семечек, бумажных вееров, коробочек и прочих пестрых сувениров.
Без пальто и галош мы выскакиваем на платформу. Солнце жарко припекает. Майор счастливо улыбается. Гога расшалился и норовит пробежаться по рельсам, мы его ловим, торопясь возвратиться в вагон до третьего звонка. Экспресс наш снова несется, поглощая полупустые ныне пространства земли.
Харбин, вокзал, главная улица с великолепной гостиницей «Модерн», магазин «Восходящее солнце» с прекрасными шелками, ювелирный магазин «Каспэ». У входа японец-часовой. Он охраняет этот драгоценный магазин — футляр весь из полированного дерева, хранящий все эти сверкающие брильянты, драгоценные камни и жемчуга. Ужин в гостинице «Модерн». Вертящиеся двери, толстые ковры, приглушающие шум шагов официантов, богатая сервировка. Куда мы, собственно, попали? В какой бесконечно отдаленный от центра нашей Родины край России? Харбин — это эльдорадо для спекулянтов, которых выкинула сюда революция и которые здесь нашли себе всестороннее применение. Нужно прислушаться, о чем оживленно говорят эти нарядно одетые личности: о валюте, долларах, иенах, о ценах на драгоценности и товары, которые покупаются тут и там за какую-то будто бы баснословно дешевую цену. Должно быть, здесь все покупается, не только валюты, и продается: и ценности, и совесть, и честь.
В Харбине многие только проездом. Тема дня: «Куда Вы собираетесь ехать?» «Я в Америку, а Вы?» «Жду визы в Японию, а затем к родным во Францию». «Слышали, что в Италию дают только французам визу?» «Ну, это просто возмутительно! Обратитесь в английское посольство». «Вчера уехали Петровы». «Счастливые, как я им завидую!» «Я лично здесь не задержусь». «Вы читали в газете „Харбинские новости“, что творят хунхузы по дороге Харбин—Владивосток?» «Скорей бы отсюда убраться!»
Все приличные гостиницы заняты, и, за неимением лучшего, мы остановились во второразрядной «Торговой» гостинице на пристани. С утра нас будят гортанные выкрики торговцев, которые наперебой на ломаном русском языке предлагают свой товар: «Яиса, кулиса!» И на плоских плетеных блюдах: «олехи... семески... папилосы...мандалины…!»
Здесь, в Харбине, мы встретились с Костей, он элегантно одет и бодро настроен: в Дайрене ему предлагают место инструктора на английском кожевенном заводе. Условия очень хорошие, и он, по-видимому, здесь долго не задержится. Коля с майором Кошеком и Губертом Ивановичем на днях уезжает учиться в Чехию. Володя с Наташей проектируют поездку во Владивосток.
На предложение папы, почему бы им не поехать с нами в Японию, Володя страстно возражает: «Что же там делать, или прозябать на чужой земле и есть чужой хлеб? Вы как хотите, а я там не выдержу, с тоски пропаду, и не люблю я, признаться, ни япошек, ни надменных лордов-англичан». «Как хочешь, Володя, но ты рискуешь попасть в руки большевикам!» — не спорит папа.
Дуют ветры Харбина, метет пылью, слепит глаза, и кажется, что эти ветры развеют всех нас в разные концы света и что мы со многими уже никогда не увидимся. Но разве можно удержать эти ветры, эту стихию, которая разрушает все на своем пути, подхватит нас и унесет или закрутит в своем водовороте?
Красив новый город с ровными улицами и домами-коттеджами, которые утопают в зелени садов. Но все же не лежит душа к этому городу и никогда не привыкнет!
Вечером в кабаре. На мотив «Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?» поет артист Аносов. Белый и грустный Пьеро на фоне бархатного занавеса поет романс на злобу дня:
Где Вы теперь?
На острове Ямайке,
В Константинополе, в Париже, в Монпелье?
Бежали Вы от страшной Чрезвычайки,
Бежали день и ночь, бежали сотни лье.
В последний раз я видел Вас в Меране —
Вы собирались, кажется, в Бомбей,
Вы не были еще в Шанхае, на Гаване,
На Южном полюсе и острове Джерсей!
Мы получили визу в Японию — едем!