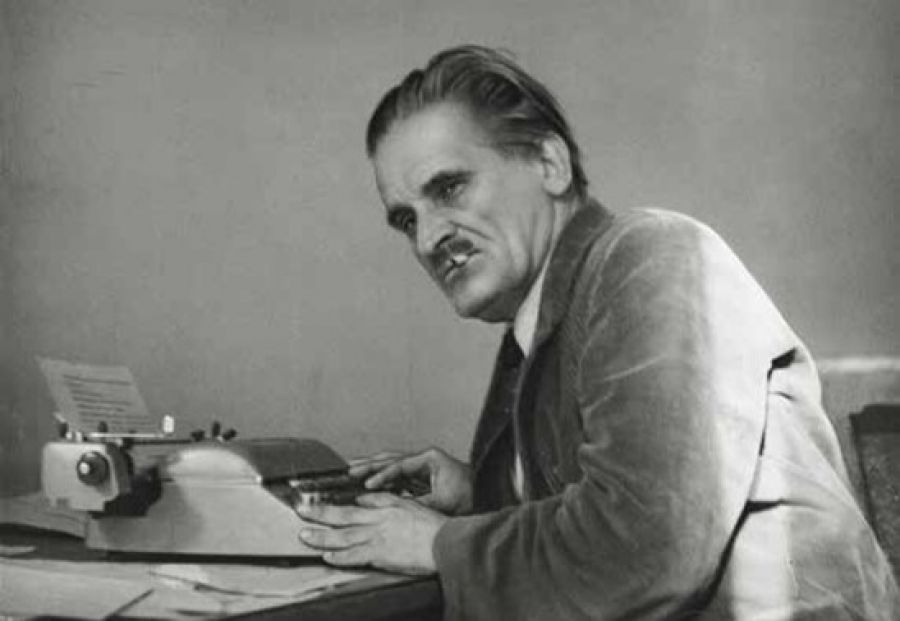Окончание. Начало см. «Русское слово» № 3/2024
Знаете ли вы, что такое террор?
Запрет фильма «Строгий юноша» летом 1936-го был тяжелейшим ударом по всей дальнейшей жизни Олеши, по его писательскому положению. Предыдущие книги его не переиздавались до 1956 года, а бесчисленные начала новых вещей валялись в горах многовариантных черновиков. Постепенно от него уходила слава. Он впал в депрессию, много пил. Террор в стране усугублялся. Жизнь становилась крайне опасной.
«Знаете ли вы, что такое террор? — запишет он в дневнике. — Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор — это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами, а бывает также, что этот нос называется Днем поэзии…»
В сентябре 1936 года Ежов, сменивший Ягоду на посту наркома внутренних дел, резко усилил кампанию по борьбе с польским шпионажем. Начались массовые аресты поляков — якобы «соучастников шпионской деятельности» арестованных сотрудников Коминтерна и НКВД, выкрикивавших в подпыточном бреду любые известные польские имена. Это начало «ежовщины» удесятерило тревогу шляхтича Юрия Олеши. Но не на одних только поляков обрушился приступивший к делу Ежов.
В конце октября Олешу настиг очередной удар. Арестовали Владимира Нарбута, с деятельностью которого во многом связывалось начало его профессиональной судьбы и писательский успех первой половины жизни.
Поэт-акмеист, редактор и издатель Нарбут, приехав в Одессу в мае 1920-го, возглавил там ЮгРОСТА (южное отделение Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства), куда привлек для работы творческую молодежь. Так в агентстве оказалось основное ядро литературной группы, куда поэтапно входили Олеша, Багрицкий, Катаев, Шишова, Славин, Адалис, Ильф и другие. Их объединяла страсть к высокой поэзии. Они демонстрировали ее на своих вечерах в литературной группе «Зеленая лампа» и студенческом литературно-художественном кружке при Новороссийском университете, где после окончания Ришельевской гимназии в 1917 году золотой медалист Юрий Олеша отучился два года на юридическом факультете.
Нарбут создает при ЮгРОСТА литературно-художественный журнал «Лава» и сатирический — «Облава», где зеленоламповцы оттачивали свое мастерство под его опытным взрослым взглядом. При ЮгРОСТА они организовали свой новый кружок «Коллектив поэтов», выступая с устными журналами и сборниками в поэтических кафе «ПЭОН IV», «ХЛАМ» и других.
Олеша тогда, судя по воспоминаниям участников, котировался как поэт выше других. Пройдет несколько лет, и уже в Москве, выбрав для себя прозу «настоящим простором для поэзии», Олеша полностью уйдет от лирического стихосложения. Рифма покажется ему тесными рамками для его гигантского каскада поэтических образов.
В 1921 году реорганизованное ЮгРОСТа под названием РАТАУ (Радиотелеграфное агентство Украины) перевели в Харьков. Следом за Нарбутом поехали туда и Олеша с Катаевым.
В послевоенной стране был страшный голод, разруха, свирепствовал тиф, которым Олеша тяжело переболел в 1920-м, заразив свою единственную сестру Ванду, в результате умершую. Родители, распродавая остатки имущества, готовились к репатриации в Польшу.
Харьков
Перед переездом в Харьков в начале лета 1921 года Олеша закончил пьесу в стихах «Игра в плаху», предтечу «Трех Толстяков». В ней народ восстает против короля-изверга, три актера под предлогом спектакля проникают во дворец и, вовлекая короля в игру о тиране, по-настоящему отрубают ему голову. Среди узнаваемых имен персонажей — Ганимед и Тибурций, смягченный в романе до Тибула. Действие, как и в «Трех Толстяках», происходит в условное время с намеком на эпоху Французской революции.
В Харькове «Игру в плаху», одобренную Репертуарной комиссией Всеукраинского театрального комитета, ставит в «Молодом театре» к четвертой годовщине Октябрьской революции Рудольф Унгерн. И 7 ноября 1921 года состоялась ее премьера. Через три недели текст пьесы был приобретен Главполитпросветом. А в мае 1922 года она была напечатана в первом (и последнем) номере харьковского журнала «Грядущий мир».
Но все эти радостные события развивались на трагико-драматическом фоне послереволюционного времени. Катаев в книге «Алмазный мой венец» так вспоминает об их с Олешей харьковских мытарствах того периода:
«…разруха, холод, отсутствие товаров, а главное, ужасный, почти библейский поволжский голод. <…> Сейчас трудно представить всю безысходность нашего положения в чужом городе, без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки для того, чтобы не умереть с голоду. <…>
Мы жили в бывшей гостинице „Россия“, называвшейся Домом Советов, в запущенном номере с двумя железными кроватями без наволочек, без простынь и без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало».
Катаев вспоминает, как, продав башмаки, они с Олешей босиком входили в кабинет заведующего отделом Наркомпроса, о том, как закрыли столовую со скуднейшими пайками, обрекая их тем самым на голодную смерть, и как спаслись они просто чудом.
Но страшнее голода и холода для них тогда было известие о смерти Блока 7 августа 1921 года. «Вокруг нас мир, в котором уже нет Блока», — заклеймил, по словам Катаева, этот теряющий дух и наступающий на культуру мир ХХ века Олеша. Скоро он узнает, что вокруг него мир уже и без Николая Гумилева, расстрелянного 24 августа того же года, и без многих других великих художников, уничтоженных государством. Перечень потерь будет увеличиваться с каждым годом. Есенин! Маяковский! Нарбут!..
Валентин Катаев так вспоминал в «Алмазном венце» об их с Олешей харьковской дружбе с Владимиром Нарбутом («колченогим»):
«В Харькове <…> мы настолько сблизились с колченогим, что часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг другу стихи, — ключик (Олеша. — И. О.), дружочек (Серафима Суок, первая, гражданская жена Олеши, переехавшая к нему из Одессы в Харьков. — И. О.) и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться».
А кончилось это так: Серафима неожиданно ушла от Олеши к Нарбуту и вышла за него замуж. Этот факт наложился на другой, тоже сильно переживаемый Олешей.
«В двадцать втором году, — вспоминал он в дневнике, — папа и мама приехали в Харьков хлопотать о переводе в польское подданство <…> получили разрешение на выезд в Польшу и уехали летом.
Мы попрощались, поезд уходил на Шепетовку, папа выскочил из вагона, чтобы еще раз обнять меня. <…> Они уехали, потом я, плача, пересекал вокзальную площадь. Так окончилось мое прошлое.
Мне было двадцать два года, я плакал, я был молодой, без денег, без профессии, — я остался один, совершенно один в стране, проклятой моим отцом».
Покорение Москвы
С вдребезги разбитым сердцем Олеша переехал в конце лета 1922-го в Москву, где к тому времени уже обреталась чета Нарбутов. Поселившись в Мыльниковом переулке у Катаева, жившего здесь уже около полугода, он устроился обработчиком рабкоровских фельетонов в транспортную газету «Гудок», тотчас же превратившись в знаменитого фельетониста Зубило.
«В коридорах редакции, — вспоминал заведовавший тогда четвертой полосой «Гудка» Иван Овчинников, — все чаще стал появляться невысокого роста, слегка сутуловатый молодой человек в поношенном пальтишке.
— Одессит, поэт, живой человек, пишет стихотворные фельетоны, — аттестовала незнакомца Фомина (журналистка О. Н. Фомина. — И. О.). — Разрешите, я дам ему какую-нибудь нашу тему? Талантище из парня так и прет.
На другой же день новичок пришел в редакцию с готовым фельетоном.
— Олеша, — назвал он себя <…> и положил на стол листок со стихами. <...>
Под стихами подпись: Касьян Агапов.
Фельетон мне понравился.
— А вот подпись, — говорю, — мне не нравится. <…>
Есть у наших слесарей универсальный инструмент — зубило. <…>
Так родился псевдоним, который почти на десять лет стал своего рода знаменем четвертой полосы, да, пожалуй, и всего „Гудка“.
С уверенностью могу сказать, что ни один гудковец не был так популярен среди железнодорожников, как Зубило».
Остроумнейшая компания одесситов-гудковцев — Олеша, Катаев, Ильф с Петровым, Гехт, Кирсанов и другие, удачно дополненная киевлянами Булгаковым и Паустовским, днем сочиняла фельетоны, а по ночам создавала свою первую московскую прозу. Именно в тот период были написаны «Три Толстяка» и «Зависть» Олеши.
«Зависть»
О том, как возникла «Зависть», писатель наиболее подробно рассказал в конце 1935 года: «Что было толчком для „Зависти“, — этого я установить не могу. Внешнего толчка не было. Я узнаю в „Зависти“ краски, которые были замечены мною в очень далеком детстве, когда мне было 5 или 6 лет. Меня в детстве поражали переводные картинки. След этого детского впечатления остался в „Зависти“».
На вопрос о том, сколько времени писалась «Зависть», он ответил: «Фактически полгода. Но работал я над отдельными кусками пять лет. Учился писать».
Далее он удивил читателей: «„Зависть“ написана под влиянием Уэллса. Именно — „Невидимки“. <…> внешний облик Ивана Бабичева есть не что иное, как воспоминание мое о том бродяге — мистере Марвел, который похитил у „Невидимки“ волшебные книги».
Черновики ранних вариантов «Зависти» подтверждают эти слова. Роман начинался как фантастический, авантюрный. Там нет еще ни Кавалерова, ни Андрея Бабичева — директора треста пищевой промышленности. Главным героем истоков «Зависти» является возмутитель спокойствия, фантазер, «король пошляков», карикатурный человек с подушкой, «пожиратель раков», «изобретатель», «скромный фокусник советский» и «современный чародей» — Иван Бабичев.
«Это его штучки, — определяет в «Зависти» Андрей Бабичев действия брата, добавляя: — Отправим на Канатчикову». Но если в окончательном варианте романа изобретения Ивана являются лишь плодами его фантазии, как, например, придуманная им универсальная машина «Офелия» (по сути, сегодняшний компьютер), то при зарождении книги, еще задолго до булгаковского Воланда, «штучки» Ивана Бабичева на самом деле всецело заполняют Москву 1920-х, как только он появляется в ней. Маленький толстяк с «неопрятными бачками» и мешками под глазами, свисавшими «вроде лиловых чулок», постоянно устраивает неразбериху: он чародействует, проповедует и сводит людей с ума. В разных вариантах он оказывается то продавцом розовых очков, то мастером «бесполезных вещей», то с его легкой руки в городе открывается магазин пиротехнических изделий «Падающие звезды». И все эти его действия обязательно завершаются безумными последствиями и фантасмагорическими событиями.
В «Зависти» рассказывается о детстве Ивана:
«Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми, можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы, и дальше, дальше, вплоть до объема аэростата, — и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем».
В этом отрывке почти целиком скомпоновался сюжетный ход первой главы неоконченного варианта «Зависти», явно относящегося к научной фантастике. «День мыльного пузыря» — исток романа, где взрослый уже Иван Бабичев действительно изобретает таинственную трубочку, гигантский мыльный пузырь летит над городом и, лопнув, проливается золотым дождем.
За пять лет работы над «Завистью» одни из обитателей ее вариантов так и остались в черновиках, другие переродились в известных нам персонажей. Так, женщина, похожая на девочку в капоре из красной соломы превратилась в Валю Бабичеву, «девушку лет шестнадцати, почти девочку», с лицом, «похожим на орех», которой «могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега». Огромный толстяк, сопровождавший Ивана при входе в Москву, похож на его будущего брата Андрея, а герой с несчастной любовью обрел фамилию Кавалеров. В черновиках сохранились алмазные россыпи «королевских» метафор, часть из которых перекочевала в «Зависть» и рассказы того периода. А одна из них — «раскрытый рояль, похожий на фрак» — даже прижилась в повести Катаева «Растратчики». Олеша, редактируя ее, украсил текст этим бриллиантом.
В архиве писателя более двух тысяч страниц рукописей вариантов «Зависти». Причем уцелели далеко не все.
В конечном счете главным героем «Зависти» стал не Иван Бабичев, а поэт с метафорической фамилией Кавалеров. Недобитый донкихот, сражающийся с новым миром за культуру и чувства старого, отстаивающий Достоинство, Поэзию, Любовь и искусство служения Прекрасной Даме. Его речь выходила из совберегов. Он чувствовал и говорил так красиво, что его не понимали и смеялись над ним. По поводу изысканной фразы: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», — его антагонист, Андрей Бабичев, презрительно хохотал: «Полная цветов? Цветов и листьев?.. Это, наверное, какой-нибудь алкоголик».
Андрей Бабичев — герой нового мира. Он — бывший революционер, комиссар Гражданской, член правительства, высокий чиновник, «заведующий всем, что касается жранья», прославившийся изобретением нового сорта колбасы. Он тот самый хозяин жизни, кто, по мнению Кавалерова, изменил природу славы, унизив ее до создания колбасы, а теперь добивающий его, поэта. И Кавалеров бросает вызов:
«А я воюю против вас <…> за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя Офелия, за все, что подавляете вы».
Но интеллигент проигрывает власть имущему — и нищим отброшен на задворки жизни.
С первых же строк изысканная по стилю, языку и композиции «Зависть» потрясала звездопадом метафор. Глядя на мир глазами Олеши, читатели вдруг обретали способность видеть, что «скрипка похожа на самого скрипача», что она — «маленький скрипач в деревянном фраке», что облако — «с очертаниями Южной Америки», а прекрасная девушка, «прошумевшая» мимо Кавалерова, «как ветвь, полная цветов и листьев», — «легче тени», которой «могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега».
Весной 1927 года «Зависть» была наконец-то завершена и вскоре произошла ее первая читка.
«В Мыльниковом переулке, — рассказал в «Алмазном венце» Валентин Катаев, — ключик впервые читал свою новую книгу „Зависть“. Ожидался главный редактор одного из лучших толстых журналов[1]. Собралось несколько друзей. Ключик <…> раскрыл свою рукопись и произнес <…>:
„Он поет по утрам в клозете“.
Хорошенькое начало! Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло уже как по маслу. <…> Когда же повесть появилась в печати, то ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью».
«Зависть» вышла в 1927 году двумя частями в седьмом и восьмом номерах «Красной нови». И это стало настоящей сенсацией. О ней сразу все заговорили, заспорили, ее тотчас же начали переводить на многие языки мира. Явившись в литературу двадцатых годов «ветвью, полной цветов и листьев», она принесла своему автору высокое звание «короля метафор».
Через полвека после выхода «Зависти» Нина Берберова расскажет о своем впечатлении от нее в книге «Курсив мой»:
«…летом 1927 года я прочитала „Зависть“ и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим событием в советской литературе, пожалуй, даже бо́льшим, чем „Волны“ Пастернака. Передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное — живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать, и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкусом, знавшего, как переплести драму и иронию, боль и радость, и у которого литературные приемы полностью сочетались с его внутренними приемами собственной инверсии, косвенного (окольного) показа действительности. Он изображал людей, не поддаваясь при этом изображении соблазну „реализма“, давал их в собственном плане, на фоне собственного видения мира, со всей свежестью своих заповедных законов. Я увидела, что Олеша — один из немногих сейчас в России, который знает, что такое подтекст и его роль в прозаическом произведении, который владеет интонацией, гротеском, гиперболой, музыкальностью и неожиданными поворотами воображения. Сознательность его в осуществлении задач, и контроль над этим осуществлением, и превосходный „баланс“ романа были поразительны. Осуществлено было нечто, или создано, вне связи с „Матерью“ Горького, с „Цементом“ Гладкова и вне „Что делать?“ Чернышевского — но непосредственно в связи с „Петербургом“ Белого, с „Шинелью“, с „Записками из подполья“, величайшими произведениями нашей литературы».
А в советской критике не редкостью были такие отзывы-доносы о романе, как напечатанная в седьмом номере «Нового Лефа» 1928 года передовая статья Осипа Брика «Симуляция невменяемости», где он писал:
«Секрет Олеши чрезвычайно прост, он представил вредителей невменяемыми. <…> И, если хоть на минуту поддаться обману Олеши и ослабить бдительность, то эти господа Кавалеровы уже без всякого юродства сделают свое шахтинское дело[2]. <…> Нужно видеть врага не только тогда, когда он идет на тебя с оружием в руках, но и тогда, когда он прикидывается юродивым, пьяненьким, невменяемым. Когда он хочет сначала тебя усыпить с тем, чтобы задушить во сне. Жалеть рано. Надо сначала добить!»
Да, триумфальное шествие «Зависти» породило и максимальное внимание к Олеше властей. А выход ее практически совпал с отправной точкой сталинских репрессий. После расторжения Великобританией в мае 1927-го торговых и дипломатических отношений с СССР, преподнесенного народу подготовкой к новой иностранной интервенции, на страну накатил психоз: шпиономания, расстрел дворян, массовые аресты интеллигенции и других «внутренних врагов народа». В такой обстановке и отмечалось тезоименитство «Зависти».
В начале 1928 года «Зависть» уже книгой с иллюстрациями Натана Альтмана была издана Владимиром Нарбутом, возглавлявшим основанное им в Москве издательство «Земля и фабрика». Следом за «Завистью» Нарбут издает роман «Три Толстяка» с иллюстрациями Мстислава Добужинского и обещанным посвящением Вале Грюнзайд. Вскоре, летом 1928 года, Нарбут был исключен из рядов ВКП(б) и отстранен от руководства «ЗиФ».
Олеша так высоко ценил Нарбута, что даже простил ему харьковское предательство — Серафиму, которую очень тогда любил. Через два года после разрыва с ней он женился на средней из сестер Суок, Ольге (старшая из них, Лидия, была замужем за Багрицким). «У меня есть жена, — рассказал он матери в письме 27 июня 1927 года. — Она хороший друг и понимает, что мне нужно <…> необычайно милый человек и очень красивая <…>. Ничего другого, кроме писательской работы — мне не нужно <…> работаю все время».
Он действительно работал все время. Архив писателя горами черновиков подтверждает его непрерывный труд до конца жизни.
О природе славы в стране Советов
После «Зависти» была написана и опубликована череда превосходных рассказов: «Лиомпа», «Любовь», «Вишневая косточка» и другие.
Для Театра имени Евгения Вахтангова Олеша создал в 1928 году по мотивам «Зависти» пьесу «Заговор чувств». Премьера спектакля, поставленного Алексеем Поповым, состоялась 13 марта 1929 года. В качестве художника выступил режиссер Николай Акимов. В том же году «Заговор чувств» поставили и в ленинградском БДТ.
МХАТ заказал Олеше пьесу «Три Толстяка», которую драматург прочитал худсовету уже в сентябре 1928 года. Пьеса была восторженно принята к постановке, но премьера состоялась только в 1930 году. Дело в том, что ее собирался ставить сам Станиславский, но тяжело заболел, и в конечном счете пьесу поставил режиссер Николай Горчаков. Художником спектакля был Борис Эрдман. Играли: Алексей Грибов, Михаил Яншин, Мария Кнебель и другие.
«Я — автор Художественного театра: Метерлинк, Чехов, Андреев и я. Вы только подумайте», — писал в дневнике Олеша. И, рассуждая на эту тему, говорил о природе славы в стране Советов: «Вопрос себе: революция, я, Художественный театр — что же: этап ли это в моей жизни? То, что пьеса такого-то писателя идет в Московском Художественном театре, есть ли это знаменательное событие в жизни писателя, если принять во внимание третье условие — революцию? На этот вопрос могу ответить: не знаю, неизвестно, все спуталось».
Эта тема сполна получит свое развитие в его следующей пьесе — «Список благодеяний», написанной по заказу Всеволода Мейерхольда. Премьера в ГосТИМе с Зинаидой Райх в главной роли состоялась 4 июня 1931 года. «Постановка пьесы не принесла лавров ни автору, ни театру, хотя после премьеры и происходили шумные диспуты, и дискуссии в печати <…>, — вспоминал Александр Гладков. — Режиссер не пошел по пути условной философской притчи, чем по замыслу автора была пьеса, но он не нашел и достаточно последовательного и убедительного иного решения <…> в чем-то уступил автору и автор Мейерхольду, а средняя линия в искусстве никогда не побеждает».
После премьеры Олеша признался Льву Славину, что «Мейерхольд, для того чтобы 3инаиде Райх было удобнее и легче играть, испортил „Список благодеяний“ безвкусными поправками, выбрасывая одни эпизоды, перемонтируя другие». Тем не менее Олешу с Мейерхольдом связывала близкая дружба до середины тридцатых годов. Там их пути разошлись навсегда.
Как известно, пик Большого террора пришелся на 1937—1938 гг. Страну, заболевшую паранойей, штормило в бреду. После ареста Владимира Нарбута в октябре 1936 года начинает стремительно редеть ближайшее окружение Олеши. В апреле 1937-го умирает от туберкулеза Ильф, арестована и отправлена в ссылку Лидия Багрицкая. В сентябре погибает семнадцатилетний пасынок писателя, выбросившийся из окна их квартиры в состоянии нервного срыва. В ноябре как контрреволюционер-террорист арестован, затем расстрелян в 1938-м Валентин Стенич. Арестован по подозрению в шпионаже и приговорен к восьми годам заключения Святополк-Мирский. В январе 1938-го закрыли ГосТИМ, а весной в лагере на Колыме уничтожен Нарбут. В 1939-м арестованы, а затем расстреляны Бабель и Мейерхольд, зверски убита у себя дома Зинаида Райх. У Олеши нервный срыв, депрессия, он говорит об этом Булгакову, спрашивает совета. В марте 1940 года не стало и Михаила Булгакова.
Олеша пьет, заключает бесконечные договоры с киностудиями и театрами на создание киносценариев и пьес, тянет время, получает повестки в суд из-за невозвращенных авансов, занимается литературной поденщиной — пишет статьи, рецензии, заметки в газеты, доводит до ума чужие сценарии, начинает и не заканчивает собственные вещи, постепенно разучиваясь ставить точку. И почти в прямом смысле слова превращается в нищего, того самого, у которого «кличка писатель».
Думается, что именно этот образ нищего, в который он входит сознательно во второй половине 1930-х, плюс репутация пьяницы и спасли его от физической расправы. Власти оставили Олешу в покое, репрессировав грядущие, так и не написанные им книги.
Вернувшись в конце войны в Москву из Ашхабада, куда он был эвакуирован с Одесской киностудией, где написал несколько рассказов, статей, участвовал в антифашистских радиопередачах, Олеша обнаруживает, что его квартира в проезде Художественного театра (Камергерском переулке) занята. И до 1954 года они с женой буквально скитаются по чужим углам, пока наконец не обретают жилплощадь в коммуналке писательского дома в Лаврушинском переулке.
Во второй половине 1950-х гг. жизнь Олеши понемногу налаживается. По заказу вахтанговцев он делает инсценировку «Идиота» Достоевского. Премьера спектакля в постановке Александры Ремизовой состоялась в 1958 году. Мышкина играл Николай Гриценко, Настасью Филипповну — Юлия Борисова, Рогожина — Михаил Ульянов.
А до этого, в 1956 году, наконец-то, после двадцатилетнего перерыва, большими тиражами выходят последние прижизненные издания Олеши: томик его «Избранных сочинений», отдельной книжкой — «Три Толстяка», и в альманахе «Литературная Москва» впервые появляется небольшая часть его дневниковых записей.
Они делались с конца 1920-х. Он старался в них не колдовать над стилем, создавая их то короткими, то длинными, отрывочными, зачастую брошенными на полуслове. В них было все — и его детство, и отрочество, и юность, и его ранняя, не по годам, старость. В них оживали его друзья и многие известные люди, проходившие рядом. Там говорилось об Одессе, Москве, любимых книгах, разнообразных событиях с его участием, рассуждалось об искусстве, футболе, путешествиях по миру, которые так и не удалось совершить.
Благодаря этим записям он выжил и как писатель. Он складывал из них свою мозаику-книгу, у которой было несколько вариантов названия: «Я делюсь прекрасным», «Что я видел на земле», «Ни дня без строчки», «Слова, слова, слова», «Книга воспоминаний», «Воспоминания и размышления», «Сто записей». Олеша не успел ее завершить. Умер он в Москве от разрыва сердца 10 мая 1960 года в 61-летнем возрасте.
Тем не менее его «роман в стол» о собственной жизни и времени, которое он, несмотря ни на что, сумел достойно прожить Художником, был написан.
Эту книгу складывали уже без него. Она вышла в двух вариантах: «Ни дня без строчки» (1965) и «Книга прощания» (1999). И обе они являются ответом на вопрос, прозвучавший в рассказе «Вишневая косточка», могущий стать эпиграфом и к этим двум, и к любым последующим вариантам дневниковой мозаики писателя. Да ко всему его творчеству:
«Так, значит, наперекор всем, наперекор порядку и обществу, я создаю мир, который не подчиняется никаким законам, кроме призрачных законов моего собственного ощущения?»
[1] Ф. Раскольников, приглашенный на эту читку писателем Л. В. Никулиным. См. об этом: Никулин Л. Годы нашей жизни. Воспоминания и портреты. М., 1966. С.230—231.
[2] В 1928 г. был показательный процесс в Шахтинском районе Донбасса по обвинению группы руководителей и специалистов в шпионской деятельности, вредительстве.