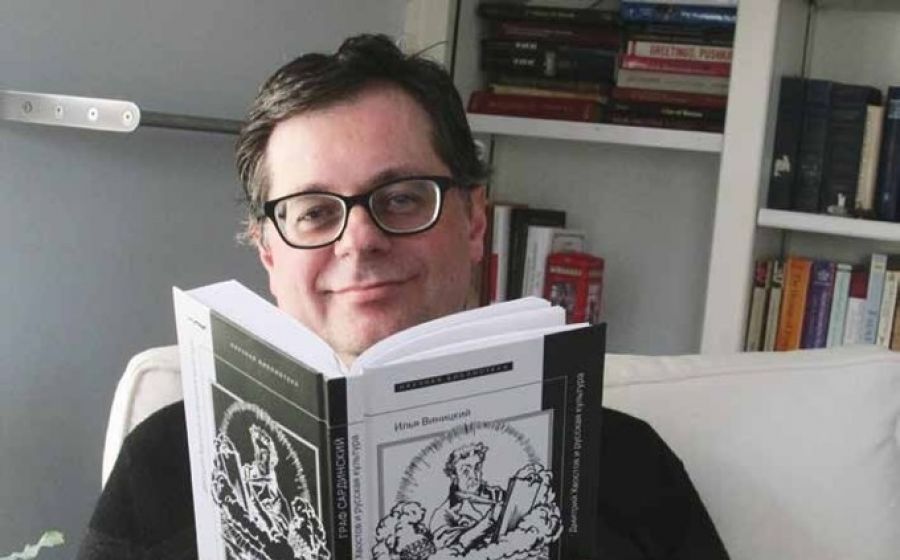Но кроме того, он автор книг иного рода. Их невозможно отнести к тому облегченному жанру, который в советские времена называли занимательной филологией. Они написаны так, что филология в них невероятно увлекательна именно вследствие своих «встроенных функций». Захватывать, как приключение, — ее естественное свойство, и это становится понятно с первых же страниц книг Ильи Виницкого.
— К исследованию русской литературы филологи приходят разными путями. Каким был ваш путь?
— Прямым, как перст судьбы. У бабушки был альбом с декадентскими стихотворениями, которые она мне читала вслух, и потом рассказывала о культуре, совсем не похожей на окружавшую меня в советские годы. В 10 лет я уже знал наизусть «Демон самоубийства» Брюсова и пел с подвыванием «Где Вы теперь? Кто вам цалует пальцы?» Вертинского-Пьеро. Под этим упадническим влиянием я начал писать стихи, которые были очень плохие, вроде «Дом с белыми колоннами, как ножки танцовщиц...» или «Билась степь о степь, билась рать о рать». Одна из моих книг, о великолепном метромане графе Д. И. Хвостове, в известной степени является результатом осмысления собственной неудачи и российского стихобесия, был такой термин. Бабушка отправила подборку моих стихотворений (переводов) Борису Заходеру, который, прочитав их, любезно ей ответил, что из меня может выйти прозаик. Другая поэтесса после прочтения моих стихотворений посоветовала мне идти на филологический факультет. В МГУ я не подавал из-за пятого (этнического) пункта, а в МПГУ (педагогический) поступил и не жалею: там были замечательные учителя и хорошие люди — лингвисты Жанна Дозорец, Юрий Петрович Солодуб, Алексей Дмитриевич Шмелев, Леша Глазков; литературоведы — Валентин Иванович Коровин, Олег Иванович Федотов и Олег Проскурин, который ворожил на вечернем отделении. Участвовал в так называемой проблемной группе англиста Игоря Шайтанова и полумифическом обществе НЕОПОЯЗ вместе с филологами Мишей Свердловым, Олегом Лекмановым, Стасом Хурумовым и другими друзьями. Говоря по-анкетному, наибольшее научное влияние на меня оказали лекции лингвиста Михаила Викторовича Панова из МГУ. Благодаря ему я увлекся Велимиром Хлебниковым, и первая моя статья была об этом поэте; я недавно опять вернулся к его творчеству. Диплом писал о балладах В. А. Жуковского, о нем и две мои диссертации. Успел «на празднество Расина» в Тарту и участвовал в конференции, на которой присутствовал сам Лотман, который был со мной «совершенно согласен», когда я сказал в перерыве: «Господи, какой здесь чистый воздух!». Учился в аспирантуре ИМЛИ у гоголеведа Юрия Владимировича Манна. В Америку уехал в 1998 году преподавать. Однажды меня спросили студенты, люблю ли я русскую литературу. Я растерялся и почему-то вспомнил ответ Николая Ростова на похожий вопрос княжны Марьи: «А жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. <...> Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй, отрежь его». Забавно, что одна моя студентка, прочитав это место в «Войне и мире», неожиданно сказала, что если бы ее супруг ей так ответил, то она бы немедленно с ним развелась. Но мы с русской литературой как-то держимся вместе пока.
— А почему именно литература XVIII и XIX века? Что привлекло в этих столетиях — определенные авторы, или дух времени, или его загадки?
— Так сложилось. Но сейчас мне больше интересен XX век с его грандиозными и малыми утопиями и мистификациями. Российский XVIII век — это такая лаборатория культуры, где можно проследить чуть ли не в режиме онлайн, как зарождаются основные жанры, проблемы, амбиции, иллюзии и предрассудки, дошедшие до нашего времени. Очень высокая степень персонификации этих проблем и дискуссий. Чувствуешь себя их незримым свидетелем. Приведу аналогию. В Женеве есть Музей протестантизма, и там когда-то была такая экспозиция: длинный стол, за которым «сидят» «голоса» главных реформаторов церкви. Эти «голоса» спорят о доктрине предопределения. Они как будто ссорятся друг с другом, соглашаются, кричат, стучат по столу и смеются. Иногда в зеркале-компьютере, висящем на стене, проскальзывает чья-то тень. А зрители все это слышат и воображают. Так и с XVIII веком — блаженны те, кто слушает и исследует те далекие споры, одним словом.
— А век XIX?
— XIX век, особенно ранний, — похожая история, но мне здесь интересны прежде всего не идеи, а культурные эмоции, преломляющиеся в поэтических текстах. Иначе говоря, история эмоций. Мой главный герой — чувствительный романтик Василий Жуковский, о котором я написал три книжки, и, хотя и дал слово, что хватит, но иногда его нарушаю и что-то дописываю. Очень люблю книгу Андрея Зорина о ближайшем друге Жуковского предромантическом поэте Андрее Тургеневе. Но меня интересуют не столько эмоциональные коды-матрицы, в которые вписывали свои переживания авторы той эпохи, сколько разные типы ощущения мира, представленные, так сказать, в общем хоре времени.
Что же касается загадок, то, когда находишь что-нибудь странное, скрытое автором от чужого взгляда, но потенциально важное для общей картины, сразу загораешься.
— Вопрос о загадках, как вы понимаете, не случаен, а связан с вашей статьей на «Арзамасе» — о столоверчении, гипнозе, видениях и привидениях в русской литературе XIX века. Ваш интерес к этой теме вызван тем, что потустороннее всегда привлекает особое внимание людей? Или эта тема стала для вас неким магическим кристаллом, сквозь который лучше различается что-то основополагающее в русской литературе?
— Статья в «Арзамасе» — такая выжимка из моей английской книги о спиритизме и реализме. Меня заинтересовал парадокс: почему спиритизм — от столоверчения до материализаций — возник и стал особенно популярен в России именно в так называемый «период реализма». В творчестве почти каждого известного русского реалиста — Писарева, Тургенева, Лескова, Достоевского, Толстого — был свой собственный «спиритический» эпизод. Мне показалось, что через анализ этих «мечтательных» эпизодов можно лучше понять парадоксы и надрывы реалистической литературы XIX века. Если коротко, то основным вопросом русской интеллигенции и литературы для интеллигенции был не вопрос «Кто виноват?» или «Что делать?», а вопрос «Кому верить?». Спиритические сеансы реалистической эпохи пародировали или эксплицировали это стремление получить окончательный, «научный», общественно верифицируемый и наиболее авторитетный ответ на мучившие интеллигенцию вопросы. Отсюда, в частности, проистекает страсть русских писателей и критиков постоянно вызывать на «допрос» тень Пушкина вначале на сеансах, а потом — метафорически — в литературных текстах и публичных речах: что ты, скажи, думаешь о Крымской войне? о русской душе? о нашей словесности? Но загробный Пушкин, увы, давал самые разные и взаимоисключающие ответы на собраниях идеологически разных кружков — причем почему-то всегда такие, какие представители данного кружка хотели от него услышать. Вообще, ритуальное почитание этого прекрасного и умного поэта в русской культуре я считаю своеобразной формой общественного спиритизма по форме и сути. Помните, Маяковский в «Юбилейном» сравнивает свою болтовню с памятником Пушкина со спиритизмом? Так оно и есть. В русской национальной мифологии бедный поэт был и остается рабом лампы, то есть стола. Как бы его отпустить на волю?
Еще один сюжет этой книги — реконструкция спора Достоевского со спиритами и их противниками-учеными в 1876 году. Он тогда посетил сеанс на квартире у главного русского пропагандиста спиритизма и оставил об этом сеансе интересные записки, нашедшие потом отражение в его творчестве. Даже вывел один психологический закон — закон неверия, — который считал универсальным: если я не хочу поверить во что-то, то, хоть миллион доказательств предоставь, все равно не поверю — и баста. Интересно, что «искусство фантастического» Достоевский сравнивал со спиритическим сеансом, понятым как своего рода апофеоз сомнения.
— В предисловии к книге «О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного», опубликованной в «Издательстве Ивана Лимбаха», вы написали, что давно хотели найти способ пройти между Сциллой привычного для вас жанра академической статьи «с ее узкой специализацией, тяжеловесным научным аппаратом и серьезным и глубокомысленным тоном и Харибдой беллетризированной импровизации на научную тему». Книга эта посвящена загадочным ситуациям русской литературы, на которые не обращали внимания филологи. Какая из загадок представляется вам самой яркой?
— Это такая форма эмоционального эскапизма у меня — наверное, связанная с реакцией на господствующую в современном литературоведении идеологическую серьезность. «Скучно, девушки!» — как сказал Коля Остен-Бакен, уйдя из политической ячейки красавицы Инги Арманд. С другой стороны, я никогда не был поклонником беллетристической филологии с характерными для нее — не менее серьезными — духовными прорывами и профетической лексикой: «Вчитайтесь в эти строки Поэта! В них его завет — манифест, пророчество, откровение и т. п. — потомкам!..»
Загадки для меня — это не тайны, открываемые нам какими-то там избранными «кормчими», а конкретные историко-литературные проблемы, прояснение которых позволяет лучше понять как сами тексты, так и литературную среду и идеологические конфликты, маскируемые или выражаемые этими текстами. Более того, загадки, которые я пытаюсь решить, тесно связаны для меня со странным и не сводимым к какому-то общему знаменателю культурным бытом — той жизнью, что была, и той, что есть. Разгадки не так важны, как сознание того, что все вокруг всегда было запутанно, непредсказуемо, невероятно, иногда весело и почти всегда печально.
А любимая моя загадка в книге о соловье — история о тайном скаутском обществе начала 1920-х гг. «Ганьямада», оказавшаяся настоящим водоворотом разных сюжетов: от английской педагогики и авантюрных романов до империалистических мифов, политических репрессий, советских социальных экспериментов, споров о зауми и, главное, о трагической судьбе молодых людей из интеллигентских семей, тех самых, что поколением раньше искали у авторитетов ответа на коренные вопросы. Молодых людей, не захотевших подчинить себя и свое воображение коммунистическому детерминизму истории.
— Есть в этой книге и то, что вы назвали «легкой меланхолией посреди безумного и больного мира». Стоит отметить, что это сказано о мире, в котором еще не разразилась большая европейская война. Когда же она началась, это заставило многих людей иначе взглянуть не только на российскую историю, но и на русскую литературу. Была ли у вас потребность такой перемены взгляда?
— Война-то началась в 2014 году, и угроза ее расширения чувствовалась все эти годы. Да и раньше многие «темные» стороны (имперство, колониализм, шовинизм и т. п.) были видны, и о них писали ученые. Я не очень люблю идеологические кампании, хотя хорошо понимаю людей, вдруг открывших для себя, что все не так, как их учили. Прежде всего, и в мирные, и в военные периоды к литературным произведениям и связанным с ними культурным и историческим мифам надо относиться критически. Вообще ко всему, в том числе и к научным и идеологическим схемам и терминам, надо относиться критически. Причем критика эта должна быть индивидуальной, а не «колхозно-фейсбучного» происхождения. Ученый отвечает на вопросы, которые его лично волнуют, в том числе как гражданина.
Была ли у меня потребность перемены взгляда с началом войны? Ну, во-первых, я сам родился в Харькове и вся моя семья из Украины. Я помню свой первый дом, у меня там есть друзья, мои бабушки и дедушки любили свои города, которые сейчас под обстрелами. Негодование и непонимание того, как такое вообще могло произойти, естественно возникли сразу. Когда начали говорить о вине литературы, я вначале удивился: ведь люди, которые бомбят, книжек, как правило, не читают, а Пушкин для них — в лучшем случае вы(м)ученное стихотворение в школе и бронзовый монумент сомнительного эстетического качества в парке. Литературу используют — это да. Но я как раз этим вопросом давно занимался. Моя самая любимая — давняя — статья «О дяде Гордее и жиде Лейбе. (Поучительный случай из истории русской «литературы для народа»)» посвящена тому, как в конце эпохи Александра II и правительственные идеологи, и антиправительственная часть молодежи создавали мнимых авторов и мнимые тексты для политической борьбы.
Безусловно, нужно избавляться от мифов и мнимостей, но хорошо бы при этом не породить новые. У меня есть любимая цитата из автора, которого никак нельзя упрекнуть в социальном индифференциализме. Приведу ее, с вашего разрешения, хотя она и длинная. Это Салтыков-Щедрин: «Я понимаю очень хорошо, что, с появлением солнечного луча, призраки должны исчезнуть, но, увы! я не знаю, когда этот солнечный луч появится. Вот это-то именно и гнетет меня...» И далее: «Наша действительность до того переполнена, заполнена ими, что мы, из-за массы призраков, не видим очертаний жизни. Мало того: мы сами отчасти делаемся призраками, принимаем их складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! Они сильнее силы, живучее жизни, эти призраки! И я, который сейчас пишу эти строки, я пишу их под игом призраков, и вы, читающие эти строки, — вы тоже читаете их под игом призраков».
— И что же делать ученому, чтобы не оказаться во власти мнимостей?
— Не «менять взгляды» на «обратные» под влиянием импульса, а ставить корректные научные вопросы и искать ответы, зная, что последние всегда относительны и в значительной степени ситуативны. Что такое русская литература вообще? Насколько она однородна? Из чего она состоит? Какие роли (во множественном числе) в обществе исполняла и исполняет? Какие мифы создала и почему? Как она соотносится с территориальностью, государственными границами и «титульным» языком? С другими национальными литературами? Сколько есть русских литератур? Как функционируют переводная русская литература в чужих традициях, иных литературных системах? В конце концов, главное для исследователя — вырабатывать новые подходы к текстам, расширять контексты, находить забытые или маргинализированные голоса, усложнять картину литературного процесса, не позволять себе идеализировать объект изучения и научиться интерпретировать связанные с этим объектом иллюзии и мифы, иногда очень опасные, наконец, пережить и побороть вызванную культурным шоком меланхолию, не дав ей обернуться депрессией и апатией.
Есть, конечно, и этически мотивированные вопросы. Виноват ли Пушкин в войне? Виноват ли Маркс в Голодоморе и культурной революции в Китае? Виноват ли Каин в Холокосте? Это вопросы для говорящих голов на кампусах и аватарок в журналах и социальных сетях. Они интересны и важны. Но это все-таки абстракции. Доктора лечат конкретных больных, филологи читают конкретные тексты и интерпретируют конкретные смыслы, созданные в конкретных обстоятельствах. Я согласен с известным тезисом о том, что филология — это наука понимания. Не обвинения, а понимания. Жить страшно и больно, но все равно интересно — с научной точки зрения. Остальное — дело философов, политиков, журналистов, юристов и, конечно, поэтов и писателей.
— Проявилось ли с началом этой войны что-то совершенно для вас неожиданное в русской жизни и литературе? Или, как становится понятно по вашей статье «Видение топора: Как Достоевский летал в космос», все укладывается в матрицу, где «русский топорик, запущенный „провидцем духа“, все летит — дальше и дальше, „сам не зная зачем“, и, косясь, как говорил другой русский писатель-пророк, смотрят на него в ужасе другие народы и государства...»?
— Если честно-честно, то почти ничего неожиданного, кроме какого-то быстрого и едва ли не тотального одурения людей, даже хороших и умных. Такое было, наверное, в начале Первой мировой войны и накануне Второй. Дезориентация, легкая манипулируемость современными средствами. А зависть, злоба, трусость, эгоизм и связанный с ними конформизм всегда были. Топорик летит — это да. Интересно, что сейчас та статья, на которую вы ссылаетесь, ассоциируется уже не со спутником, а с дронами. Но вдруг этот топорик — бумеранг? Уже ведь бумеранг.
— Один из любимых тезисов российской пропаганды: русскую культуру в мире запрещают. Ответ на него российской культурной оппозиции: никакого запрета нет, по всему миру ставятся пьесы Чехова и делаются новые переводы романов Льва Толстого. Так есть запрет или нет? Изменилось ли в мире отношение к русской культуре?
— А вы уже сами ответили: «любимый тезис российской пропаганды». Ничего здесь не запрещают, пьесы Чехова ставятся. За один год я был на двух ярких постановках: крымовской «Вишневого сада» в Филадельфии и «Дяди Вани» в нью-йоркском Центре Линкольна. Курсы по Толстому и Достоевскому все так же собирают студентов. Другой вопрос: изменилось ли отношение к русской литературе и культуре в целом? Я думаю, что и это очень абстрактный вопрос. Для кого-то, безусловно, да. Для кого-то этот вопрос неактуален. Кто-то воспринимает роман Достоевского «Преступление и наказание» не как русский роман, а как роман, вписывающийся в западный круг чтения и отвечающий на вопросы, к России отношения не имеющие. Я как-то спросил у дочки: «Как ваше поколение относится к ... ?» Она перебила меня: «Папа, ты действительно думаешь, что я представляю все свое поколение? Мы разные». Позволю себе еще один пример. Меня пригласили принстонские студенты и аспиранты выступить на юбилее Достоевского. Терпеть не могу юбилейные выступления, но в этом контексте было интересно и важно принять участие. Представил меня католический священник, поляк по происхождению, служивший какое-то время в Ватикане. «Я, — говорит католик-поляк, — был человеком нерелигиозным, но в колледже прочитал „Братья Карамазовы“ — и уверовал». А как же антикатолическая Легенда о Великом инквизиторе и отвратительные антипольские выпады писателя? Такой неожиданный side-effect получился. Может быть, текст романа сложнее, чем кажется?
— Падение советского «железного занавеса» отразилось на работе славистов всего мира. Тогда изменилась картина научного обмена, поездки из Европы и США в Россию и обратно стали обычным делом. Сейчас стремительно идет, а то и уже завершился, обратный процесс: поездка западного ученого в Россию стала, мягко говоря, небезопасна, да и не все ученые считают для себя приемлемой такую поездку. Как слависты справляются с этой реальностью?
— Я не могу говорить за всех. Я в Россию не собираюсь, а вот в Харьков хочу, хотя и страшно.
Проблема, с которой мы сталкиваемся: студенты-русисты потеряли возможность совершенствовать язык в естественной среде, а аспиранты — возможность работать в российских архивах. Выходим из этой ситуации так. Прежде всего пытаемся (давно пора было!) расширить диапазон славистики — изучение других славянских языков и культур. У нас преподаются сербскохорватский, польский, чешский и украинский, но наборы пока маленькие. Польская и украинская литературы — это целые миры, на протяжении столетий находившиеся в соседстве-соперничестве с русской культурой. Самое время заняться историей этих отношений.
Сейчас мы студентов-русистов отправляем в летние школы в Таллинне и Мидлбери (Вермонт). Поощряем аспирантов заниматься архивами русских и славянских культурных сообществ и индивидуальных авторов, живших вне России, это очень богатая тема. И, конечно, нужно изучать другие славянские языки, писать сравнительные исследования, искать новые проблемы и методологии, децентрализующие миф о «великой российской» и тем самым освобождающие русскую литературу — тех же Пушкина и Достоевского — от государственно-политических манипуляций.
— Можно предположить, что в последнее время появились какие-то новые аспекты изучения литературы, написанной на русском языке. Это так?
— Начну все-таки с более близких мне англоязычных работ. Сейчас в западной русистике время исследований колониальных и имперских аспектов русской литературы. Это нужно и интересно, если к вопросу подходить ответственно, а не применять готовые бинарные схемы. Популярными стали далекие от меня лично исследования морально-философического характера. Например, на курс нашего выпускника «Достоевский и Кьеркегор» записалось много студентов.
По-русски — очень большую работу проделывает лучший российский филологический журнал «Новое литературное обозрение». Они ищут, придумывают и печатают актуальные тематически и идеологически блоки статей, публикуют новаторские книги, оригинальные и переводные. Главное — они не замыкаются на какой-то одной методологии или проблеме. Повторяю: они ищут. Мы ведь в начале нового пути. Никто не знает, что будет и как будет. Поэтому и надо искать, отвечать на то, что происходит, и не замыкаться в сектантстве любого толка.
— И напоследок — снова к магии русской литературы. Читаются ли в ее видениях какие-нибудь пророчества о том, чем может завершиться нынешняя преступная ситуация, в которой находится Россия?
— Специально для ответа на этот вопрос решил обратиться к спиритуалистическим практикам и открыл том Пушкина на первой попавшейся странице. Вот что получилось:
<…> Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.
Вот ведь сукин сын! Может быть, лучше запросить ChatGPT?