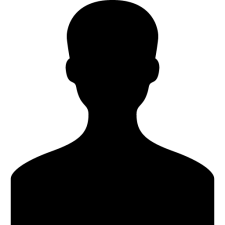Невероятные слухи! Верховный Правитель арестован по приказу Жанена и одноглазого «Зборовского героя» генерала Сырового. Предатели его отправляют в Иркутскую тюрьму, передав его левому эсеровскому правительству! Чешская армия, прекрасно вооруженная, могла спокойно взять под свою охрану Колчака, но она сама целиком во власти эсеровского правительства, распропагандированная, раскормленная на русских хлебах полудеморализированная, не способна и не хочет спасти адмирала. Его, генерала Пепеляева и нашего Ника, адъютанта адмирала Колчака, не желавшего покинуть Правителя в минуту опасности, чехи выводят из вагона и передают в большевистские руки. Как рассказывают видевшие эту передачу, по замершей Ангаре их повели пешком. Идти будто бы было трудно, ноги скользили на гладкой поверхности льда. Их увели в Иркутскую тюрьму, двери которой за ними закрылись навеки. В чьи же руки попал русский государственный запас? Ни на одной станции мы его больше не видели. Кто овладел им — большевики, чехи? Для нас загадка.
Вечером мы с майором Покорным стоим у окна в коридоре и тихо разговариваем. Лицо майора Покорного бледнее обычного. «Поверьте, мы сами этого не ожидали! Эта измена — наша темная страница в истории чешских легий. Нам, и мне в частности, стыдно за наше начальство!» «Конечно, Вы ни в чем не виноваты!» «Союзники совершили ужасное предательство, выдав адмирала Колчака... эта страница позорна. Поверьте, многие чехи подавлены, но военная дисциплина требует от нас повиновения, мы должны молчать, а это не так-то легко дается».
Отъезжаем от Иркутска, с каждым поворотом колес все дальше и дальше оставляя этот злополучный город, который являлся свидетелем низкого предательства в истории народов. Что расскажут потомству эти густые леса, и не может быть, чтобы на веки веков под этими снегами была похоронена суровая правда. Ведь «Мне отмщение, и Аз воздам».
КРАСНОЯРСК
Капитан Кантурек — чиновник интендантства. Он всегда озабочен, всегда куда-то спешит, на нем ответственное задание — хозяйство эшелона, которое он выполняет со всей страстью и энергией своей подвижной и энергичной натуры. Нужно закупить продукты, денег для этой цели отпускается достаточно, и солдаты ни в чем не нуждаются.
Сам Кантурек процветает и пышет здоровьем. Он как паровоз, пыхтит-пыхтит и выпускает пары, если бы он этого не делал, его, вероятно, разорвало бы на части — он проворно бегает туда-сюда и, как крот в свою норку, тащит запасы сахара, муки, мяса.
Легионеры цветут, интендантство богатеет, а население к чехам относится все с большим и большим недоверием и антипатией. Они уже не братья-освободители, как их называли раньше, а почти ненавистный пришлый элемент чехо-собаки, занявшие всю сибирскую магистраль, не спасители-славяне, а шкурники и враги.
Петя Лушников, вероятно, выпив лишнее, по русской манере все говорить в глаза, без утайки высказал свое мнение о «чешском вопросе», выругал чехов за их фальшь, расчетливость и корыстолюбие, собрал свои манатки и, заявив: «Я с вами, предатели, ничего не хочу иметь общего», — хлопнул дверью и на первой же станции от них ушел. Что с ним стало дальше — неизвестно!..
Отношения у нас, беженцев, с чехами тоже последнее время неважные. На остановках из интендантского вагона обыкновенно выходит папа и приходит к нам в штабной вагон. «Ну, какое у вас настроение? Что нового?» — задаем мы ему целый ряд вопросов. «Настроение у меня лично подавлено, — бодро пробует отшутиться папа, обладая жизнерадостным и оптимистическим характером. — Ну, а что нового у вас? Как здоровье Ляли?» «Она у нас третий день нездорова, у нее жар, — рассказываем мы ему о своем житье-бытье. — Когда мы умывались, кто-то бросил камень в окно, разбил его и выругал нас проклятыми колчаковцами... Ну, а в общем все по-старому». «Имейте в виду, что следующая станция уже частично в руках эсеровского правительства, вероятно, как меня предупреждали, будет контроль: ищут и арестовывают генералов, офицеров-белогвардейцев, а заодно и беженцев-буржуев...»
Майор Покорный и майор Мезель озабочены нашим положением, и при тусклом освещении электрической лампочки мы держим совет. Что же нам делать и как нам быть? Вот мы сообща приходим к определенным решениям. Решено, что Ляля едет в чешском эшелоне как жена убитого легионера капитана Матоушка, я гражданская жена майора Покорного. Необходимые документы, изготовленные на скорую руку в канцелярии штаба 6-го полка, у нас на руках. Папа, одевшись под рабочего, как истопник вагона, может быть, останется незамеченным. Мама, тетя Оля и маленький Гога — просто «беженская масса». Все как будто бы в порядке, но на душе неспокойно — с каждым поворотом колеса мы все ближе и ближе к станции, и теперь уже не радует скорость, с которой мчится наш поезд. Вот вдали показалась водокачка — поезд замедляет ход и, наконец, останавливается. Вода, бегущая из труб, превратилась в ледяные струи, окоченела. На рельсах поезда по чьему-то приказу задержанные нетерпеливо ожидают своей отправки. Так вот он какой, большевик с красным кумачом на рукаве и в меховой шапке-ушанке! На станции суета — проверка документов, через полузамершее окно мы видим, что кого-то вывели из вагона и под конвоем повели по направлению к станции. Но почему же чехи так пассивны? Нет им дела до того, что творится на русской земле, и до всего этого произвола! Лязгая шпорами, прошли двое по коридору и остановились у купе командира полка. О чем-то его спросили, затем хлопнула дверка и спустились с лесенки вагона. Как будто опасность миновала.
«Итак, с сегодняшнего дня Вы моя молодая жена», — говорит майор Покорный, наклоняется и целует мне руку. Мы стоим в коридоре у окна и говорим тихо, т. к. многие уже спят под ритмичный стук колес, бегущих все дальше и дальше на восток…
Вот и священное море — Байкал. Подъехали к станции Лиственичная. Какая вокруг тишина! Деревья опушены густым покровом снега, могучие ветки раскинулись во все стороны. Бескрайний, безбрежный Байкал закован в лед. Деревья упираются в небо, стволы иных деревьев так широки, что их не обхватить и трем человекам. Вот на верхушке дерева кто-то встрепенулся, услышав наши голоса. Что это за птица? Вероятно, это фазан, распахнувший широкие крылья, он тяжеловесно перелетел на соседнее дерево. Водворившуюся тишину нарушила белочка, она проворно вскарабкалась на дерево, своим пушистым хвостом встряхнув на нас целое облако снега. Из леса выходит охотник. Кто он, остяк или бурят? Он приветливо нам улыбается. На его полушубке и спереди и сзади повешены убитые зверьки. Прибрежные скалы, как причудливые чудовища, возвышаются у отлогого берега — какой темно-зеленый лед, и, если в него внимательно вглядеться, можно рассмотреть у берега и само причудливое дно, и гальку, и желтоватый песок, и даже рыбку, которая проплывет и исчезнет у самого дна. Сегодня у нас на ужин жареная форель, с картофелем и мороженой клюквой, она несравненна!
Утром при ярком блеске солнца покидаем Лиственичную и стоим на площадке вагона. Солнце и снег слепят глаза. Воздух свежий, бодрящий. Нам весело и хочется смеяться.
Teče voda proti vodě,
Vítr do ni fouká,
Má panenka modrooká
Z okéne
ka kouká, —
запел майор Мезель чешскую песенку, которую сейчас же подхватили мы и майор Покорный. «Знаете, господа, сейчас начнутся туннели, лучше всего нам разойтись по купе», — обращается к нам майор Мезель, и вместе с Лялей он уходит в вагон. Мы с майором Покорным остаемся одни. Тьма нас внезапно ошеломляет, дым от паровоза застилает глаза, оглушает железный лязг колес, грохочущих по рельсам, и отдаленный гудок паровоза. Майор Покорный держит меня за руку и крепко меня целует в губы. Молочный туман и дым постепенно рассеивается — перед нами снова ослепительный Байкал, и вдруг нас снова поглощает темнина туннеля. Запах дыма мешается со специфическим запахом каменного угля.
«А ведь таких туннелей на Байкале, говорят, 55, не лучше ли нам тоже вернуться в купе?» — стараюсь я отшутиться и выскользнуть из крепких объятий майора, майор бросает свою недокуренную сигару и неохотно сопровождает меня в вагон. Какой сверхчеловеческий труд нужно было употребить, чтобы сначала взорвать эти горы, а затем проложить этот бесконечный ряд туннелей. Много сил и труда было потрачено для того, чтобы в этой непроходимой тайге создать Восточную Сибирскую дорогу. И в этом труде исключительная заслуга наших несравненных инженеров и упорный, настойчивый труд сотен рабочих рук. Но зато и результаты хороши: в мирное время за 14 дней пути сибирский экспресс поглощает обширные пространства земного шара от Владивостока до Москвы. Заброшенные уголки нашего государства оживали, благодаря торговле, богатели, и в них проникала культура. Последний дым туннеля рассеялся, а все еще перед нами озеро Байкал и нет ему конца-предела.
Миновали Слюдянку и Култук и остановились на станции Мысовая. Пора и нашему поезду перевести дух, паровозу набрать воду и уголь, придти в себя. Перед нами все та же величественная картина, да только с противоположного берега. Забайкалье находится в руках атамана Семенова, который им завладел при помощи союзников японцев. Казачье Забайкальское войско держит порядок решительно и беспощадно расправляется с мятежниками и агитаторами.
Мама, накинув шаль на голову и взяв корзинку, отправляется на станцию что-нибудь купить, а главное — разузнать о Сереже. На каждой остановке мы оставляем записку: «Сережа, мы едем на Восток!». Через час она возвращается печальная — о Сереже ничего не слышно. В корзинке у нее форель, но хлеба купить не удалось.
«Франц Францевич! — обращаюсь я к майору — мне нужно с Вами поговорить. Знаете, что сегодня после обеда мы покидаем ваш вагон и переселяемся в теплушку?» «Не может этого быть! Кто это решил? Ведь там вам будет неудобно и тесно. Почему Вы мне об этом не сказали раньше, но и теперь еще не поздно, я поговорю с командиром». «Нет, не делайте этого, дольше нам пользоваться вашим гостеприимством неудобно, сами знаете, что отношения наши осложняются, а самолюбием мои родители все равно поступаться не станут».
Майор Покорный огорчен нашим решением и еще долго старается меня убедить повлиять на родителей, не обращать внимания на «недовольный большевиcтвующий элемент», но наше решение твердо и непоколебимо.
Итак, мы переселились. Теперь мы уже без всяких привилегий просто беженцы. Одна половина теплушки занята семьей Балыковых, на другой половине на нижних нарах помещается Губерт Иванович и повар Василий Васильевич. Верхняя нара наша. Папа с тетей Олей и Гогой переходят в датский поезд Красного креста и завтра же покидают Мысовую.
«Буржуйка» наша топится и днем, и ночью, иначе мы бы замерзли. Несмотря на непотухающий огонь, потолок часто покрывается инеем, особенно под утро. В буржуйку подброшено топливо, иней постепенно оттаивает, превращается в пар и назойливыми каплями падает на нас, спящих. Необходимо натянуть на себя одеяло и спрятаться под него до тех пор, пока потолок постепенно не просыхает. Но повторяю и подчеркиваю, нет, кажется, положения, к которому бы человек не привык.
На станцию подошел 2-й батальон, и мы вечером празднуем наше «новоселье». Печка раскалена докрасна. Дровишки весело трещат. Чайник закипает и весело клокочет. Мы принимаем гостей, сидя на нарах, — Пепу и майора Покорного. «Не жалейте нас и не сочувствуйте, — говорим мы нашим заботливым друзьям. — Уверяем вас, что ко всем житейским невзгодам мы стараемся относиться по-спартански. Ведь все, в конце концов, не вечно, и на нашем горизонте проглянет солнце».
Мы поровну, по кусочкам, делим шоколад, принесенный нам нашими гостями, он нам заменяет сахар. Как приятно греет замерзшие руки горячая кружка чая! Пепа поет арию из «Богемы»: «Как холодна Ваша ручка…» Обращаясь ко мне: «А как холодна наша печка...» В тон ему вступает Ляля.
Пепа ловко спрыгивает с нар: «Губерт Иванович, Вы наколите дрова, а я займусь нашей печкой». И снова шутки и смех, молодость берет свои права, она всегда с нами, ее невзгоды не убьют. Мысовую окутала мгла, непроглядный туман повис над Байкалом. Покорный рассказывает о том, что вчера паровоз раздавил легионера поручика Поспишила. Он шел за справкой к коменданту станции и в клубах пара паровоза не заметил. Его похоронили на деревенском кладбище. С последним салютом из ружей все покинули его одинокую могилу. Так, наверное, никто из родных и не увидит его могилы и никто ему не принесет цветы, одинокий холм постепенно сровняется с землей.
С утра чехи проводят военное ученье: взрывают лед на Байкале. Куски льда высоко взлетают вверх, гул взрыва еще долго детонирует в морозном воздухе, и дымовая завеса как будто им удалась.
А все-таки, что может быть хуже и нестерпимее холода? На ночь мы натягиваем на себя одеяла и шубы. Всю ночь кто-нибудь из мужчин дежурит у печки, сменяя один другого, но всего этого мало. В полночь мы проснулись и прислушались к возне внизу. Оказывается, что Губерт Иванович впотьмах «подбросил» чей-то ботинок. «Эх, Губерт Иванович, что же Вы наделали, ведь это мои самые теплые башмаки!» — горестно восклицает тетя Антонина Николаевна. Грустно, но ничего не поделаешь!
Не согреешься ночью, так коченеешь целый день. А дров в запасе все меньше и меньше, чем будем топить — неизвестно. Но, утверждаю, нет, по-видимому, в жизни абсолютно безвыходного положения. «Идемте, идемте скорее, вы должны мне помочь, я раздобыл сани, но дрова нужно сложить как можно скорее и доставить их на место!» Мы с Лялей радуемся возможности подвигаться и, предвкушая тепло, прыгаем с нар, набрасываем на себя платки и шубы и бежим за Губертом Ивановичем.
Обежали один эшелон, куда-то пролезли между вагонами и оказались перед японским эшелоном. Тепло одетый японец в полушубке с меховым воротником, с ружьем за плечами, только что миновал открытую теплушку, полную мелко нарубленных дров. В один миг мы с Губертом Ивановичем нагрузили полные сани, Губерт надел свои теплые рукавицы, и мы быстро повезли дрова в обратную сторону. Но не успели мы отъехать несколько шагов от теплушки, как услышали за спиной резкий окрик часового: «Стой! Вы засем наси дрова взял?»
«Холодно нам, понимаешь, — стараемся мы объяснить японцу-часовому, — маленькие дети мерзнут у нас, плачут...» Японец нас понял, заулыбался, закивал головой в круглой меховой шапке. «Халасо, урус халосый. Католый теплушк?» Мы показываем ему, которая наша теплушка, японец снова улыбается, говорит свое приветливое «банзай» и отдает под козырек.
Не успели мы порадоваться краденым дровам и растопить печурку, как слышим стук винтовкой в двери нашей теплушки, удивленно открываем дверь и видим того же нашего япошку, который приветливо нам улыбается и старается нам объяснить, что пришел он нас навестить и с нами познакомиться. «Я — нипон, з Нагасаки, тоже маленькие дети, —рассказывает он нам и ласково смотрит на Тоню и Таню. — Я хосю ваш фотографии дома мама-сан, дети будут их смотреть, холясо?» Поняв его желание и тоже проникнувшись к нему расположением, мы порылись в чемоданах и даем ему наши снимки. «Аригато газаримас», — цедит сквозь зубы приветливый гость, отдает под козырек и исчезает, но не проходит и часа, как он опять лезет в нашу теплушку с письмом в руках, которое подает маме. Письмо от нашего хорошего знакомого по Омску из японского посольства майора Мики. На чистом русском языке, без единой ошибки майор Мики пишет: «М-ме, один из наших солдат только что пришел от Вас и показал нам фотографию Вашу и Ваших дочерей, которых я сразу узнал. Я очень был бы счастлив, если бы вы посетили вагон нашей посольской миссии».
Нет, свет положительно мал и тесен и полон самых невероятных случайностей и встреч. Вечером вагон-салон японской миссии залит электричеством. Майор Мики сияет и блестит золотыми зубами. Он счастлив оказать нам гостеприимство. Ужин совсем европейский: ростбиф, на сладкое компот из ананаса, чай почти без сахара в крошечных, изящных чашечках. Мы рассказываем о своем бегстве, говорим о политике и затем прощаемся. «М-ме, благодарю Вас и Ваших дочерей за Ваше посещение, располагайте мною, буду очень рад быть Вам полезным». Из нарядного вагона попасть в нашу теплушку — порядочный контраст.
С японской миссией уезжает мама присмотреть нам всем жилье в Чите. Мы остаемся с Лялей, много гуляем в лесу, присматриваемся к жизни леса, окружающей природы — знакомимся с жизнью населения в ожидании отправки эшелона. Уезжая от нас и расставаясь с нами, мама нам сказала: «В нашей теплушке с вами поедет одно лицо, будьте к нему внимательны, добры, но, пожалуйста, не задавайте ему вопросов». В сумерки это «неизвестное лицо» в пальто с поднятым воротником и глубоко надвинутой на глаза меховой шапке пришло к нам по лесенке, поднялось наверх в теплушку, сказало: «Здравствуйте, господа, надеюсь, что я вас не стесню и для меня найдется место...» Влез на нары и как будто погрузился в глубокий сон. Сначала мы его незаметно наблюдали, но, быстро освоившись, уже не замечали. Через два—три дня по каким-то, наверное, личным соображениям, господин этот как появился неожиданно, так неожиданно и исчез. «Это генерал Матковский, — сказал нам Губерт Иванович, — он не хочет, чтобы его узнали и выдали бы чехи левым эсерам, он скрывается». Куда ушел от нас в эту темную и холодную ночь и где теперь скрывается это кем-то преследуемое и затравленное «неизвестное лицо?»
На половине Балыковых большая радость — вернулся из далеких странствий их сын Костя, доброволец Белой армии. Долго скитался и наконец-то разыскал своих. Нам с ним стало веселее. Это красивый юноша лет 19-ти с карими веселыми глазами. Нас с ним связывает наше детство, елки, маскарады. Как далеко они ушли… «А помнишь, Костя, как ты чуть не сгорел, изображая Дедушку Мороза, и как твой папа не растерялся, а, видя, как запылала вата на твоем кафтане, быстро закатал тебя в ковер. А помнишь фейерверк в Екатерининском заводе?»
На нашей половине он дальше от родителей, от которых немного отвык, от их забот и замечаний. Фронт и война научили его легко переносить лишения, он к ним привык. Вся их богатая жизнь отошла, как и наша, в область преданий. Но нет, мы молоды, жизнь, несмотря на все лишения, и интересна и что-то сулит впереди. Хотя мы, жители теплушки, часто замерзаем, но ведь снаружи продолжает светить солнце, сегодня мы недоедаем, но, может быть, завтра будем сыты. При нас остаются надежды, мечты и наши маленькие радости.
Кажется, мы покинули Мысовую — во всяком случае, мы все в сборе и двери теплушки захлопнуты. Как будто тронулись, не даром нас рвануло и качнуло в сторону, да и ведро, привешенное под потолком, заплясало и зазвенело. Едем! Действительно едем! Проплыла станция и водокачка, сквозь полузамерзшее окошко мы увидели Байкал, на котором простояли самое холодное время... Замелькали елки, сосны и березки. Под стук и лязг колес проходит темная ночь... Обыватели теплушки спят... Какие сны им снятся? Стучат колеса, ведя свой неумолкаемый разговор между собой, проплывает белый дым от паровоза, за далью снова мерещится даль.
ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД
Кажется, мы изучаем сибирские дали не только географически воочию, но и историческую быль. Наш поезд, поглотив огромное пространство земли, остановился на станции Петровский завод. В этой глуши, занесенной снегом, когда-то давно жили декабристы, представители русской аристократии и цвет русской интеллигенции, которые свои жизни положили за русский народ и его свободу. Недалеко от каменной постройки завода угольные шахты, где они, когда-то избалованные жизнью, работали, копали уголь в невероятно тяжелых условиях, первые годы закованные в кандалы, копали насквозь промерзшую землю. Годы прошли. От царя Николая I пришел приказ узникам: Ôter les fers! — Снять кандалы — и это как высочайшая царская милость!
Вот и Петровский каземат, у окон которого по колено в снегу должны были часами простаивать княгиня Волконская и княгиня Трубецкая, чтобы на короткий миг увидеть своих мужей, и не всегда им удавалось подкупить сторожей и умолить их взять передачу для узников.
Вдоль каменной стены каземата, по укатанной дороге прямо в поле дети ездят на санках — веселые дети, смеются, едут вниз, потом проворно тянут саночки наверх, их звонкие голоса разносятся в морозном воздухе. Где-то залаяла собака. Мирно падает снежок.
Так, должно быть, было и раньше, в эпоху декабристов, так будет и потом. Внизу за холмом кладбище под густым покровом снега. Кем-то тщательно разметены узкие тропинки туда, к их дорогим могилам. Могила князя-поэта Одоевского — бедная могила — белый крест на ней как терновый железный венок. Могилы Волконского, Лунина. Здесь покоится история. Немногим удалось дожить до старости, и только Трубецкому довелось в преклонном возрасте вернуться на родину, здесь эти страдальцы за правду нашли свой вечный покой.
Вечером мы идем в церковь. Субботний вечер как-то особенно тих и торжественен. В облаках заблудилась луна. Снег сверкает и хрустит под нашими шагами. Вечерню служит седой священник, мерцают свечки у темных ликов икон — вот в этой самой церкви они тоже молились, как и мы, но, может быть, еще горячее. Молились о своих близких, просили у Бога сил, чтобы он помог им перенести их лишения и страдания, когда становилось совсем невмоготу жить дальше и переносить их. Может быть, они уходили из церкви примиренные, с миром в душе и с надеждой, что их помилуют и вернут им свободу, а может быть, вера, только их глубокая вера и только она одна и помогала им перенести невероятные страдания.
Вместо цветов мы положили елочный венок на скромные могилы, помолились за упокой их чистой души — постояли, прислушиваясь к тишине кладбища и к собственной душе, мысленно прощаясь с теми, кто дорог нам. С теми, кто души свои положил за правое дело и вечную правду.