Николай Ефремович Андреев (1908―1982) ― историк, историк литературы и искусства, мемуарист.
В 1919 году вместе с отступавшей армией Н. Н. Юденича эмигрировал с родителями в Эстонию.
В 1927 году окончил с отличием Ревельскую городскую русскую гимназию.
Через Германию отправился на учебу в Прагу, где в 1927―1932 гг. учился на философском факультете Карлова университета и в Русском институте сельскохозяйственной кооперации.
Ученик профессоров В. А. Францева1, А. А. Кизеветтера2, Е. А. Ляцкого3. Личный стипендиат президента Чехословакии Т. Г. Масарика.
В 1933 году защитил докторскую диссертацию по философии.
Сотрудник Семинара имени Н. П. Кондакова4 (1928), действительный сотрудник (1931), библиотекарь (1932), действительный член (1933), член правления (1935), ученый секретарь (1938) и директор (1939―1945) Археологического института имени Н. П. Кондакова в Праге.
Автор курса истории русской литературы и истории России в Русском свободном университете в Праге.
Член литературного объединения «Скит» (1930), Ревельского цеха поэтов (1933―1935), кружка по изучению русской литературы при Русском Свободном университете, Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, Русского исторического общества.
Редактор альманаха «Новь» (1928―1930, Таллин).
В мае 1945 года арестован СМЕРШ, до 1947 года находился в заключении в Чехословакии, затем ― под Дрезденом (Германия).
В 1947―1948 гг. жил в Берлине.
С 1948 года ― в Великобритании, где преподавал на кафедре славистики Кембриджского университета историю России и русской литературы.
В 1973 году получил звание экстраординарного профессора славяноведения.
Читал курсы лекций по истории русского Средневековья, иконописи, русской общественной мысли, вел семинары, посвященные жизни и творчеству Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
Похоронен на кладбище церкви св. Андрея (Кембридж, Великобритания).
К концу жизни Н. Е. Андреев практически ослеп и, не имея возможности писать, почти все надиктовывал. Его мемуары ― интереснейшие рассказы о людях и событиях, представленные автором, обладавшим уникальной памятью, детально и ярко.
1917…
В 1917 году исполнялось 10 лет службы моих родителей в школе Земледельческой колонии5, и товарищи по службе, педагоги, служащие и начальство, решили этот юбилей отметить. Служба была трудная, требовала напряжения, постоянного педагогического воображения, стойкости, поэтому люди не часто оставались в этой школе надолго.
Но мои родители как раз 10 лет провели очень удачно, и по забавному стечению обстоятельств я, их первенец, родился как раз 28 февраля 1908 года, спустя год как они сделались преподавателями. Получался как бы двойной юбилей: с одной стороны ― десятилетие службы у родителей, а с другой ― мое девятилетие, которое отмечалось тогда же.
Мое детское впечатление в этот момент было таким: никто не ожидал серьезных перемен, никто не представлял, что мы находимся в самом конце российской монархии, российской империи.
В этом настроении прошло 1 и 2 марта, и тут отцу позвонил из Петербурга директор и сообщил, что получено точное известие о том, что император отрекся.
Все были возбуждены и удивлены быстротой событий.
Никто не ожидал отречения императора, думали, что он пойдет на большие уступки и превратится де факто в нечто аналогичное английскому или шведскому королю.
Во всяком случае, настроение было сумбурное и радостное, и «Марсельезу» исполнили горячо. Конечно, мальчикам в школе ничего не сообщали. Отец сказал, что незачем политизировать школу. Потом учителя на уроках объяснят им, что есть разные формы правления и что теперь, вероятно, у нас будет конституционная монархия. А может быть, республика. Я в свои 9 лет был потрясен: что бы мы ни говорили, но особа Его Императорского Величества была овеяна известным романтизмом.
Единственный, кто не разделял воодушевления, была моя нянечка Ольга Михайловна. Она сидела на табуреточке и горько плакала. Когда, наконец, обратились к ней и стали спрашивать: «Ольга Михайловна, в чем дело? Вы почему плачете?», то она сквозь слезы, которые лились буквально ручьями по ее немолодому лицу (ей было 68 лет), отвечала одной и той же фразой: «Горе вам всем будет, горе!»
К слову сказать, она ко многому относилась сурово, в том числе к крестьянству, и считала, что при крепостном праве оно выигрывало, мужики тогда побаивались: не помещика, помещик не жил в селе или в имении, а его приказчика. Поэтому пьянствовали только четыре раза в году: на Рождество, Пасху, Троицу и на престольный праздник. А как стала воля, начали праздновать и пить, все учащая, каждое воскресенье, а потом уж и в будние дни. Эта ее теория многим крайне не нравилась, и не только моим дядюшкам, но даже когда я рассказывал историкам, например Марку Юльевичу Шефтелю6, он рассердился и говорит: «Это совершенно невозможное объяснение социальных процессов».
Много позднее, в 1918 г., когда большевики развязали террор и моего отца в какой-то вечер предупредили, что он не должен спать дома, что его могут арестовать, он вдруг посмотрел на маму и в моем присутствии сказал: «А ведь в день отречения императора единственный умный человек в комнате была няня». Конечно, ни он, ни его друзья не предполагали, во что выльется русская революция.
Уже в 20-е гг., после гражданской войны, когда мы оказались в Эстонии, отец оценивал 1917 г. до Октябрьского переворота как состояние крайнего и незрелого возбуждения. Несколько раз даже резко высмеивал себя и своих коллег, называя всех «политическими недорослями».
<…> Одним из самых бессмысленных актов Февральской революции было объявление, что упразднены все органы полиции и избирается народная милиция.
Очень скоро, уже незадолго до Октября, когда началось массовое дезертирство из армии, уход с фронта целыми частями в жутком психическом состоянии, функции такой милиции стали совершенно призрачными, и почему была упразднена полиция, почему не даны были другие инструкции, неизвестно, но это обстоятельство толкало население в объятия анархии. Можно было только удивляться, что эта анархия, во всяком случае, в Петербургском районе, выражалась в мирных формах. Дезертиры-солдаты, которые были вооружены и имели массу бомб, задавали тон хулиганству во всем районе. Они всюду разбивали винные склады. Водка была под официальным запретом с начала войны, но, конечно, была всюду. Опьяневшие дезертиры представляли социальную опасность ― они грабили, насиловали и разбивали.
Мое отношение к революции оказалось резко отрицательным, потому что в имение пришла банда наступающих дезертиров, в перепившемся состоянии прошла по службам имения и несколькими ударами бомб в пруды и маленькие канавы, прикрытые сетками, где разводили головастиков форели, навсегда положила конец рыбному хозяйству.
Отталкивающее впечатление от революции возникло у меня, во-первых, от этого варварства, и во-вторых, от того, что наш уважаемый директор, Михаил Павлович Беклешов7, скоро был объявлен нежелательным элементом для каких-то комитетов бедноты. Меня поразило, что такой хороший человек, как Михаил Павлович, известный своей добротой и политическим либерализмом, признан социально нежелательным элементом и чуть ли не приговорен к смертной казни какими-то совершенно неизвестными людьми из соседней волости, которая не имела к нам никакого отношения. Еще больше я поразился, когда пошли рассказы об актах насилия над офицерами, и вчерашние герои оказались втоптанными в грязь неизвестными массами.
Наша среда уже была настроена против Керенского, потому что бесконечные его речи стали утомлять: никаких действий нет, все речи и речи. Попытки наступления на фронте провалились, а то, что он объявил себя военным министром, казалось комичным. Все-таки каждый умный человек понимал, что ведать огромными армиями ― это не простое дело, оно требует профессионализма. Когда выступил Корнилов, то сочувствие ему было велико ― население начинало понимать, что анархия, в которую вступала страна, ведет в пропасть...
<…> Появился Ленин, и возросло влияние большевиков, о которых раньше мало кто слыхал. О них заговорили лишь после апреля 1917 г., после возвращения Ленина в Россию. Одновременно со всех сторон стали поступать известия о начавшемся разложении фронта. Увеличивалось количество дезертиров. Был опубликован приказ номер 1, который отменял традиционную дисциплину в армии и стал зловещим признаком разложения, потому что всюду появлялись дезертиры.
Затем последовал кризис Временного правительства.
Рядом с ним возникли какие-то Советы, которые сначала никому ясны не были, но постепенно стал вырисовываться их облик как параллельного органа власти. В Изварах не было Советов, рабочих там было мало, школа оставалась нетронутой, но в соседних деревнях началось движение за Советы против Временного правительства. То, что произошло 25 октября 1917 года, невозможно считать случайностью. В связи с тем, что якобы появилась пролетариатская диктатура, усилился интерес к выборам в Учредительное собрание. Отец объяснял, что даже Ленин не пытается затронуть авторитет Учредительного собрания и не отменил выборы. Они пройдут, и тогда истинный хозяин русской земли будет не царское, временное или теперь большевистское правительство, но само Учредительное собрание.
Но в начале 1918 г. Учредительное собрание было разогнано после первого же дня заседания, 5/18 января, и все пошло серьезнее, потому что на сцене Российской революции появилась сила, которая хотела уничтожить своих противников физически. Прокатились выстрелы в Ленина, и была учреждена Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Пошли различные слухи. Мой отец в 1918 г. растерял свой политический оптимизм, потому что реальная картина становилась мрачной. В местном масштабе усилилась роль комитетов бедноты. В комитете собрались люди, совершенно не причастные к сельскому хозяйству. По-видимому, входили туда «убогие крестьяне», как их называла моя нянечка, то есть безлошадные, бобыли, не обрабатывавшие землю.
Опасность для школы была в тот момент не столько с верхушки нового коммунистического контроля, сколько с низовых пунктов. К нам появился представитель комитетов бедноты и объяснил, что он уполномоченный нескольких комитетов.
Он, маляр, опять-таки не имевший никакого отношения к местному крестьянству, разразился тирадами такого бульварно-революционного характера ― здесь, мол, скопились всякие контрреволюционные элементы, начиная с директора Беклешова, и они, комитет бедноты, начинают чистку и предлагают расстрелять Беклешова, в прошлом известного кадета из семьи царских узурпаторов.
Но главной проблемой было питание. Здесь надвигалась настоящая катастрофа. Она стала обозначаться в 1918 г. и выразилась в том, что Петроград стал лишаться подвоза. Хлеб не доставляли, а если доставляли, то не распределяли как следует, муки и других продуктов не хватало.
Не было больше частников, торговцев, которые заботились о том, чтобы были большие запасы продовольствия. Остались только несколько кооперативов, которые всеми силами старались получить продовольствие, но правительство, в частности Красная Армия, все время старалось перехватить их запас. Поэтому пришлось страшно сократить хлебные пайки, выдачи на руки становились все меньше и меньше. Сахар почти исчез из оборота. Мясо было уже редкостью, и люди держались на картошке, на овощах. Затем стали примешивать к еде то, что прежде давали только скоту. Например, раньше жмых, который отжимали из подсолнечного масла, замачивали кипятком и давали скоту.
Теперь им стали подпитывать людей. Дошло до того, что пытались варить кашу из семян невсхожего клевера, запасы которого оказались на складах. Голод стал ощущаться очень серьезно.
Деревни еще имели продукты, но крестьяне не принимали деньги-керенки, которые теперь ничего не стоили, и тем более советские рубли, которые никого не интересовали. Они продавали на николаевки, как они говорили, то есть на деньги, выпущенные еще при Николае II. Но их было очень немного. Начинался обмен на товары. Его можно было производить в маленьких количествах, для нашей семьи.
Няня, моя мать, ее сестра или наши друзья ездили в деревню и покупали необходимое: кусок мяса, мешок муки или гречневую крупу.
Последние полтора года отец все более мрачнел. Уже далеким воспоминанием для всех нас стало чувство сытости, на кухне нянюшка производила почти несъедобные блюда из семян клевера, из жмыхов с фермы и из гущи житного кофе (какие-то подобия лепешек, по виду бисквитов, но черного цвета). Хлеб выдавался по ломтику в день, картошка ― только на обед, по одной драгоценной картофелине.
Положение было угрожающим, хотя наша семья переносила кризис менее остро из-за нянюшки, которая была замечательная хозяюшка.
Но времена были опасные. Как-то мой отец возвращался по привычке пешком из Волосова. Проходил он 10 верст шутя и играя, как он выражался. Чудный воздух, около шоссе шли специальные дорожки, протоптанные, пробитые пешеходами, так что идти всегда было легко и приятно. Движения было очень мало. Встречные обычно знали отца и держались дружески и почтительно.
Но в этот день он возвращался по другой дороге. И вдруг увидел, что на опушке леса, на перекрестке двух дорог, сидит китаец. Держит винтовку в руках и неизвестно что хочет делать с ней.
Китайцы были в большинстве случаев бывшие рабочие, которых царское правительство ввозило во время войны, ввиду того, что много мужчин было мобилизовано и не хватало рабочих на строительных работах. Когда, например, строили Мурманскую железную дорогу во время войны, чернорабочими были в основном китайские кули, которые были неприхотливы, получали мало денег и соглашались исполнять трудные земляные работы в холодных районах страны. Но после революции этих китайцев стали использовать советские власти ― трудно сказать, был ли это результат пропаганды или найма, но время от времени вооруженные китайцы появлялись в районах, где было крестьянство с правыми настроениями или с трудом шла продовольственная разверстка. Не хотели крестьяне отдавать продукты правительству ― и тогда появлялись китайцы, которые в случае чего могли этих крестьян и перестрелять.
Когда отец увидел китайца, сидящего и играющего винтовкой, он задумался, что делать дальше. Если обойти китайца и скрыться в лесу, китаец заметит и может легко его подстрелить или пойти за ним и напасть.
Отец решил пойти прямо к китайцу, поскольку дорога вела мимо перекрестка, на котором китаец устроился. Он подошел, в левом кармане у него лежали сигареты, которыми он решил угостить китайца. Неизвестно почему, всех китайцев звали тогда «ходя». Он подошел к нему и сказал: «Ну, добрый день, товарищ ходя. Что ты делаешь?» На что китаец, который, видимо, мало понимал по-русски, сказал механическую фразу: «Хозяин деньги платит, ходя стреляет, хозяин деньги не платит, ходя не стреляет». Из такого ответа, разумеется, нельзя было понять, будет ли он стрелять. Платил ли ему хозяин деньги? И кто его хозяин? На всякий случай отец решил посидеть рядом с ним, посидел минуточку, угостил сигаретами, что, кажется, ходе понравилось. Он поблагодарил, сказав: «Пасиба, пасиба».
Отец ему поднес еще парочку сигарет. (Мы уже полностью вошли в советский период жизни, и все, включая сигареты, становилось дефицитным товаром). Они поговорили, как могли. И мой отец ему сказал: «Ну, ходя, всего хорошего, я пошел домой». Тот говорит: «Ходи, ходи домой». Отец пошел и даже помахал раза два ходе рукой, чтобы проверить, сидит он или уже целится. Когда отец рассказывал об этом, мать встревожилась. Она говорила, что ходя мог прельститься теми сигаретами, которые оставались у отца в кармане и вообще его вещами или деньгами. Этот маленький эпизод свидетельствует о тогдашнем общем настроении.
Постепенно менялось настроение и в нашей семье, и в школе, и в имении Извары, и среди наших родственников, время от времени приезжавших к нам, теперь даже чаще, с целью достать продовольствие.
После большевистского переворота в октябре 1917 г. господствовало снисходительно-насмешливое отношение к новой власти: «Нашли, так сказать, новые формы глупости». Постоянными были насмешки над народными комиссарами, речами вождей, над попытками провозгласить глубокую философию пролетарской революции. Теперь все становились все более скептическими и сумрачными.
<…> Сокрушенно читали в газетах странное известие о том, что Николай II был якобы казнен, а семья увезена в безопасное место. Никто в 1918 г. в это не поверил. Сразу стали говорить: «Это вранье! На самом деле императорская семья или скрылась, или спасена, или их держат как политических заложников».
Но постепенно оптимистические ноты стали исчезать, диктатура все больше и больше показывала свой настоящий облик.
<…> В мирных условиях Волосова, этой очень мирной части Санкт-Петербургской губернии, до революции сидел один-единственный становой пристав и у него было всего-навсего два урядника на громадную территорию со многими десятками тысяч населения.
На станции Волосово был единственный жандарм, который выходил к скорым поездам, важный, великолепно одетый, картинно стоял около колокола, на котором еще по старинке отбивался первый, второй, третий звонок перед отходом поезда.
Все это исчезло, и вдруг пошли непонятные аресты Чрезвычайной комиссии. На той доске, где когда-то белело расписание поездов, теперь вывешивали грязноватые списки казненных.
Многих весьма уважаемых граждан района называли теперь спекулянтами, контрреволюционерами, саботажниками, включая предпринимателей из крупных торговых домов, снабжавших население продовольствием и товарами особенно в годы войны. Их вдруг почему-то хватали, арестовывали, и пошли слухи, что арестованных убивают. Они исчезали, затем неизвестно кто выносил приговоры и осуждал их самым диким образом. Некоторых из них мой отец довольно хорошо знал, другие были мне известны по рассказам окружающих. Нас очень поразил случай с лавочником из деревни Лиможи.
Эта небогатая деревня была в двух с половиной верстах от Извар. Мы иногда туда прогуливались, заходили в лавочку, покупали что-нибудь, вроде конфет для детей.
Лавочник был жуликоватого вида, типичный мелкий торговец, с красным носом, рыжей бородой торчком, с бегающими лукавыми глазами, лавочник как лавочник. Зарабатывал, вероятно, не очень много, но был человек добрый. В трех верстах от имения Извары было село Заполье с приятной белой церковкой и большой начальной школой. И этот лавочник время от времени дарил церкви и школе разные суммы и проявлял щедрость в отношении своих односельчан в Заполье. Его арестовали и, к всеобщем ужасу, вдруг выяснилось, что он попал в таинственные списки, где-то вывешенные, и что он, оказывается, расстрелян. Потом его лавку и все товары забрал местной комитет бедноты, а его семья (у него было пятеро детей самого разного возраста) тут же, на глазах у всех превратилась в глубоких бедняков. Никому не было понятно, зачем это было нужно.
Особенно возмущалась моя няня, которая все время считала эту власть воплощением безобразия, которое вошло в русскую землю, в русскую жизнь.
<…> А кроме того, начинались непонятные действия властей, то, что именовалось «пролетарским террором». Что особенно поражало всех, хотя о составе этих чрезвычайных комиссий знали мало, но кто знал, те рассказывали: «Там нет никаких крестьян и никаких рабочих. Там странные, полубольные люди». Именно те, которых нянюшка величала «обормоты и пьяницы».
<…> Всю поездку в Петроград в 1919 г. я невольно сравнивал свои свежие впечатления с тем, что видел и запомнил в волшебном январе 1917 г., последнем январе Российской империи.
Сравнение началось в Волосове. Тогда вокзал сиял электрическим светом, это было здание отменной чистоты, хорошо отапливаемое, с двумя буфетами, с холодной и горячей едой. В буфете для пассажиров 3-го класса надо было забирать купленное у стойки, и столики не были покрыты скатерками, а цены были много ниже, чем для пассажиров 1-го и 2-го классов, где столики сияли накрахмаленными белыми скатертями и салфетками, около стойки высились неуместные пальмы в кадках, и лакеи, все пожилые в белых перчатках и манишках, принимали заказы и приносили яства ― Волосово славилось, между прочим, отменными пирожками («лучше гатчинских и петербургских на Балтийской железной дороге» ― утверждали знатоки).
Я не раз слышал, как отец и его кооператоры подчеркивали рост Волосова благодаря войне: именно от Волосова тянулась стратегически и экономически важная железнодорожная ветка, соединившая где-то около города Луги нашу Балтийскую линию с так называемой Варшавской, шедшей на Псков и дальше. Волосово превратилось в узловую станцию, его население удвоилось. Вокзал был тогда переполнен военными, инженерами, предпринимателями, мастеровыми и крестьянами ― последние, поснимав ушанки и подрасстегнув свои полушубки, с шумом пили крепчайший чай. И все дышало энергией и силой.
Теперь, два года спустя, в январе 1919 г., вокзал был слабо освещен и плохо отоплен, никаких буфетов не существовало. Единственно, что можно было получить, ― кипяток по традиции русских железнодорожных станций. Всюду стояли котлы с кипятком, и вы всегда могли действительно бесплатно его получить. Только это и осталось. Всюду сидели молчаливые или кашляющие фигуры, ожидавшие поезда. Изменился и поезд, который, как и прежде, тащили 2 огнедышащих паровоза. Не было ни 1-го, ни 3-го классов. Вагоны не отапливались. Поезд был чрезвычайно грязен. Окна были непроницаемы от грязи и ледовой корки на стеклах.
Чувствовалась революционность, по контрасту с нашей поездкой в 1917 г., когда в поездах все еще, несмотря на переполненность, блестело, а ручки были надраены. Вместо говорливой и веселой толпы военных 1917 г. пассажиры были хмуры, молчаливы, одеты серо, как будто нарочно плохо, с мешками, сумками, пакетами. Я был поражен полным исчезновением дружелюбия со стороны окружающих, которое было как бы основным фоном моего детства.
Я хранил в памяти Петербург января 1917 г., тоже морозный, тоже заснеженный, но вместе с тем парадный, залитый электричеством, блестящий не только от мороза, но и от кажущихся отполированными торцовых мостовых, от блеска приманивающих витрин бесчисленных магазинов, от веселых огней костров около извозчичьих бирж с шутливо борющимися кучерами в толстенных поддевках и «боярских» шапках. Звонки трамваев перемежались с криками лихачей «Пади. Па-ди». Слонообразные битюги с мохнатыми ногами тянули огромные возы, и кое-где тарахтели грузовики и проносились как бы куцые, узкие в кузовах легковые автомобили. Всюду двигалась деловая и всегда самоуверенная петербургская толпа, заполнявшая широченные, выскобленные дворниками тротуары, вливавшаяся в бессчетные двери магазинов, учреждений, домов и дворцов и выливавшаяся оттуда на морозные улицы столицы, над которой «трубный дым столбом восходит голубым», как с метко и лаконично описывал Пушкин морозный день в Петербурге8. Мое мальчишеское сердце подпрыгивало от восторга, когда на Невском вдруг замирали, отдавая по всем правилам честь старшим проходящим офицерам, молодцеватые юнкера…
<…> Мы благополучно приехали на Балтийский вокзал, и теперь Петроград открылся нам, как полумертвый город, засыпанный снегом, в глыбах неубранного льда, почти без движения на улицах. Электричество горит кое-где. Невычищенные площади, нерасчищенные улицы и замерзшие вагоны трамваев. Впечатление жуткое…
Окончание следует
Подготовка публикации и комментарии О. Репиной
1 Владимир Андреевич Францев (1867―1942) — филолог-славист, историк литературы, специалист по межславянским литературным связям. В эмиграции в Польше, с 1921 г. в Праге. Ординарный профессор славянской филологии в Карловом университете. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.
2 Александр Александрович Кизеветтер (1866―1933) — историк, публицист, политический деятель. Председатель Русского исторического общества в 1932—1933 гг. В эмиграции с 1922 г. в Берлине, с 1923-го ― в Праге. Читал лекции по истории в Русском юридическом институте, Народном университете, Карловом университете. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.
3 Евгений Александрович Ляцкий (1868—1942) — литературовед, историк литературы, этнограф, фольклорист, писатель. В эмиграции с 1917 г. в Финляндии, затем в Швеции (с 1920) и Чехословакии (с 1922). Профессор русского языка и литературы в Карловом университете, преподаватель в Русском свободном университете. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.
4 Никодим Павлович Кондаков (1844—1925) — историк византийского и древнерусского искусства, археолог. В эмиграции с 1920 г. в Константинополе, затем в Болгарии, с 1922 г. в Праге. Преподавал в Карловом университете. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.
5 Основана Санкт-Петербургским обществом земледельческих колоний и ремесленных приютов в 1870 г. близ слободы Ржевской. В колонии малолетние преступники в возрасте от 10 до16 лет занимались сельским хозяйством и получали начальное и ремесленное образование. В 1915―1916 гг. колония переехала в усадьбу Извары.
6 Марк Юльевич (Юрьевич) Шефтель (1902—1985) — историк, литературовед, специалист по древнерусской литературе, один из возможных прототипов главного героя в романе «Пнин» В. Набокова.
7 Михаил Павлович Беклешов (1866—1946) ― педагог, в 1906―1919 гг. директор Петербургской земледельческой исправительной колонии. С 1924 г. ― проректор Петроградского, потом Ленинградского педагогического института, профессор.
8 Строка из «Евгения Онегина» (гл. I, XXXV).







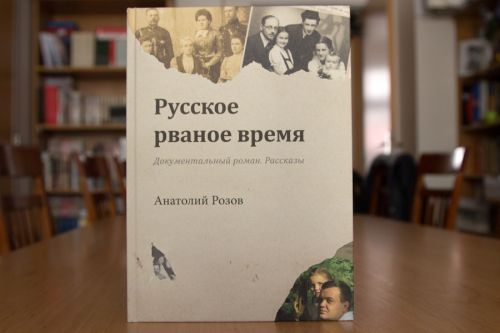


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Персональная выставка словацкой художницы Симоны Дракуловой.
Персональная выставка словацкой художницы Симоны Дракуловой.
теги: новости, 2025
Дорогие друзья! Сегодня в Чехии официально закончились Рождественские празднования. Но, тем не менее, культурная жизнь в столице не утихает поэтому сообщаем вам, что в Доме национальных меньшинств проходит первая персональная ...
Читка пьесы Артура Соломонова «Эжен и Самюэль спасаются бегством».
Читка пьесы Артура Соломонова «Эжен и Самюэль спасаются бегством».
теги: 2024, новости
Уважаемые читатели и наши друзья в Праге! В рамках фестиваля Kulturus прошла читка пьесы «Эжен и Самюэль спасаются бегством». В спектакле принимали участие народный артист Украины Станислав МОСКВИН, Александр МОРОЗО...
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
теги: новости, 2024
Уважаемые наши читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим вам сообщить о том, что подготовлен макет последнего в этом году номера нашего журнала. Журнал "Русское слово" №12 сверстан и отдан в печать в типографию. К...
Благотворительный вечер
Благотворительный вечер
теги: новости, 2024
Дорогие друзья! Рождество и Новый год — это время чудес, волшебства, теплых семейных праздников и искреннего детского смеха.Фонд Dum Dobra не первый год стремится подарить частичку тепла украинским детям- сиротам, потерявшим ...
Вирус добра и правды
Вирус добра и правды
теги: 202411, 2024, культура, новости
Ежегодная конференция, организуемая Домом национальных меньшинств и мэрией Праги, состоялась 7 ноября в зале заседаний Городской библиотеки. ...
Три книги Виктора Есипова
Три книги Виктора Есипова
теги: культура, 2024, 202411, новости
Восьмого октября в Доме национальных меньшинств в Праге прошел творческий вечер Виктора Есипова — поэта и пушкиниста. Автор представил три книги последнего времени: две поэтические и, напоследок, одну литературоведческую. ...
Вспоминая Юрия Лотмана и Зару Минц
Вспоминая Юрия Лотмана и Зару Минц
теги: 2024, 202411, культура, новости
В Пражском книжном клубе 23 октября 2024 года говорили о жизни и творчестве знаменитых эстонских ученых — Юрия Михайловича Лотмана и Зары Григорьевны Минц. ...
Президент Чехии Петр Павел: Давайте помнить о хрупкости демократии
Президент Чехии Петр Павел: Давайте помнить о хрупкости демократии
теги: 2024, политика, 202411, новости
Во Владиславском зале Пражского Града прошла традиционная церемония, приуроченная к празднованию 28 октября — Дня провозглашения независимости Чехословакии. В ходе мероприятия президент республики Петр Павел объявил о награжден...