В мае 1956 года итальянский корреспондент С. Д. Анджело получает от Пастернака рукопись «Доктора Живаго» и переправляет ее в Берлин, где через несколько дней она оказывается у итальянского издателя Фельтринелли.
В июне Пастернак подписывает договор, нелегально доставленный ему через границу, ясно понимая, что публикация романа будет для него катастрофой, и фактически обрекая себя на муки и мытарства в будущем. «Если его публикация, обещанная здесь несколькими журналами, задержится, и ваше издание ее опередит, ситуация станет для меня трагически сложной»1.
Журналы («Знамя», «Литературная Москва», «Новый мир») отказываются печатать роман.
В то же время официальные власти принимают решение, «чтобы прекратить кривотолки (за границей и здесь) тиснуть роман в 3-х тысячах экземплярах, и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают Пастернаку препон»2.
В ноябре 1957 года «Доктор Живаго» выходит за границей в переводе на итальянский.
23 октября 1958 года Пастернак становится Нобелевским лауреатом3. В дипломе дается следующее обоснование: «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».
25 октября 1958 года «Литературная газета» публикует письмо редколлегии «Нового мира», адресованное Пастернаку еще в сентябре 1956 года (тогда это был отказ в публикации): «…Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. <…> Убогое, злобное, наполненное ненавистью к социализму произведение… контрреволюционное, клеветническое произведение… враждебный политический акт…»
26 октября в газете «Правда» появляется статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».
27 октября Союз писателей принимает постановление «О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя». Пастернак исключен из Союза.
29 октября на пленуме ЦК ВЛКСМ первый секретарь М. Семичастный, нарекая Пастернака «паршивой овцой» и того хуже («если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал»), советует «внутреннему эмигранту» отправиться в «капиталистический рай».
В этот же день Пастернак посылает в Стокгольм телеграмму с отказом от премии: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден отказаться от незаслуженной премии, пожалуйста, не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».
31 октября в Доме кино на собрании московских писателей обсуждают дело теперь уже бывшего члена Союза писателей Б. Пастернака. Большинство присутствующих роман не читали. Среди осуждавших — Л. Ошанин, В. Перцов, А. Безыменский, А. Софронов и Б. Слуцкий, позднее очень раскаявшийся и так и не простивший себе того выступления.
31 октября Пастернак пишет лично Н. С. Хрущеву, Советскому правительству и ЦК КПСС и просит не высылать его из России: «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее».
В январе 1959 года Пастернак передает иностранным корреспондентам стихотворение «Нобелевская премия»:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет…
Л. К. Чуковская в разгар травли Пастернака, когда со всех сторон на него сыпались оскорбления и обвинения в предательстве, запишет в дневнике 1 ноября 1958 года: «А предатели на самом деле — мы. Он остался верен литературе, мы ее предали»4.
В этих словах справедливая горечь и одновременно неправота. К счастью, были те, кто не предал литературу, а оставался ей предан. Среди них, вне всякого сомнения, — Софья Игнатьевна Богатырева, вдова поэта и выдающегося переводчика Константина Богатырева (см. «Свободный человек в несвободном мире», «Русское слово» № 3/2017), историк литературы, мемуарист, в труднейшие времена сохранившая архивы О. Мандельштама и В. Ходасевича.
Софья Богатырева
ТРИ ВСТРЕЧИ С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ
ГОД 1942-й. Война. Эвакуация. Городок Чистополь в Татарии
…Незнакомый мне человек приходит в наш дом. Он ни на кого не похож. Я не могу не заметить, что его появление вносит смятение в нашу кухню. Бабушка выступает непривычной для меня твердой походкой, поправляя гребни в седых буклях. Мама, захлопотав, выносит почти забытый мною предмет — нашу пишущую машинку «Москва», я и не знала, что она ее взяла в эвакуацию. При виде машинки гость приходит в неописуемый, какой-то детский восторг, и ужасно начинает мне нравиться. Он не говорит, а гудит, слегка даже захлебываясь: про какую-то «пьесу», про машинку, он восхищается тем, что мама догадалась ее захватить, и потому нравится мне еще больше. Он выкладывает на кухонный стол газетный сверток, порывшись, извлекает оттуда стопку листков, покрытых крупной летящей вязью, просит их отпечатать, что-то объясняет маме, показывая отдельные страницы, и вдруг так же горячо, громко и быстро, как только что хвалил маму, начинает ругать «пьесу» и уверять, что перепечатывать ее вообще-то не стоит. Тут даже я ощущаю некое противоречие — зачем же тогда принес и на стол выложил? — но гость внезапно замолкает на полуслове (у меня мелькает в уме непочтительное: «зарапортовался»), так же внезапно замечает меня и спрашивает, как меня зовут.
Ужасный вопрос, я никогда не знаю, как отвечать. Меня всяк называет, кто во что горазд: папа — «Зайцем», мама — «Зайкой», бабушка — «Птичкой», учителя — «Ивич», ребята в школе — «Чиви-чиви», т.е. Ивич наоборот, но редко кто зовет меня Соней. Мне кажется, что «Заяц» звучит солиднее, вроде имени-отчества у старших, так и представляюсь гостю. Он не переспрашивает, не выказывает удивления, он, как взрослой, пожимает мне руку и говорит:
— Рад с тобой познакомиться, Заяц.
После его ухода продолжается переполох. Я получаю кучу наставлений: ни в коем случае не дотрагиваться до листков; ни в коем случае не мешать маме работать, то есть перепечатывать пьесу; запомнить на всю жизнь, что Пастернак сказал мне: «Рад с тобой познакомиться» («Заяц» деликатно опускают, из чего я заключаю, что представилась не лучшим образом). Имя «Пастернак» мне известно: это нянечка из детского сада, называется «сестра-хозяйка», строгая Зинаида Николаевна, мама маленького Ленечки и пианиста Станислава Нейгауза. Какая связь между этим Пастернаком, нянечкой из детского сада и Станиславом Нейгаузом, которому она мама, хотя зовется «сестра», я спросить не решаюсь. У взрослых во всем такая путаница... Спасибо, никто не знает, что я посмела про себя обозвать гостя «зарапортовавшимся».
До листков, оставленных им, дотрагиваться не велено, но о тех, что выскакивают из-под быстрых маминых пальцев, речи не было. Улучив момент, когда в комнате никого нет, беру верхний — полюбоваться ровными строчками и в тот же миг в моем сознании возникают две реплики:
Ей нет еще четырнадцати лет.
В Вероне есть и матери моложе.
Я не сразу поняла, откуда они взялись, как попали в мою голову: явились сами собой, просто взяли — и отпечатались там, и вообще, что такое стряслось со мной. Лишь мгновение спустя догадываюсь: я прочитала их! По сей день мне не понять природу того восторга, который захватил, окутал, нет: прожег, пронизал все мое существо, а потому и памятен по сей день. Была ли некая магия в этих простых словах? Или — в том, что речь шла о девочке 13-ти лет, то есть о личности не столь отдаленной от тогдашней меня? Вернулось ли воспоминание о том, как играли в «дочки-матери» в мирное время, до войны? А может быть, проще — то было острое чувство новизны: мне открылась легкость и радость чтения — не как в школе, по принуждению, во всеуслышанье, а быстро, свободно, про себя и для себя.
Стыдно признаться, но у меня, ученицы 2-го класса, все еще были проблемы с чтением: читать я терпеть не могла, мне ненавистен был самый процесс складывания букв в слова, меня невозможно было усадить за книгу. Литературный текст я воспринимала только на слух: это отец меня избаловал, прочитав мне в ранние мои годы с присущим ему артистизмом десятки подходящих для детей шедевров. Но теперь отец на фронте, мама бьется, пытаясь найти в этой глуши способ заработать нам на жизнь, бабушка пытается приспособиться к незнакомой ей полудеревенской обстановке — какое тут чтение вслух, дай Бог прокормиться и не замерзнуть: зимы в этих краях суровые.
Дверь за спиной скрипнула, затворяясь. Я не слышала, как бабушка входила, но она была здесь и видела, что я держала в руках страницу и читала ее. Я ожидала нагоняя, замечания, но ничего не последовало. Усаживаясь снова за машинку, мама достала лишний листок блестящей черной — драгоценной тогда — копирки и с того момента печатала лишний экземпляр. Для меня.
«Ромео и Джульетта» в переводе Бориса Пастернака стала первой книгой, точнее, машинописью, которую я прочитала с наслаждением, с ходу запоминая наизусть целые пассажи. До последней сцены надеялась, что все кончится хорошо. Нет, кончилось плохо. Поплакала, промочив насквозь листки машинописи. Не примирилась с неизбежным, сочинила другой конец, оставив всех в живых.
Когда Пастернак появился у нас снова и поздоровался со мной отдельно, взамен «здрасте» я сообщила ему укоризненно:
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте,
на что он улыбнулся, выставив свои смешные зубы, но и вздохнул, как показалось мне, виновато.
В 1949 году в издательстве «Искусство» вышел в свет красиво изданный двухтомник: «Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака». Наверное, он появился в начале года, потому что папа успел его купить; в конце сорок девятого, объявленный «безродным космополитом», ставший изгоем, лишившийся работы и средств к существованию, мой отец книг не покупал, продавал те, что были. Я раскрыла «Ромео и Джульетту» в надежде пережить снова радость встречи с теми чудесными строчками, однако не обнаружила их: они звучали теперь по-другому, в иных вариантах. Но я навсегда сохранила верность первоначальному тексту.
Год 1959-й. Москва. Театральная площадь, помещение Детского Театра
История имела для меня продолжение, аукнулась почти полтора десятка лет спустя, в эпоху «великого реабилитанса». В ту пору люди нашего круга только и жили сообщениями о том, кто «вернулся», самое это слово имело для нас одно значение: вернулся — значит, из тюрьмы или лагеря. На дне рождения у Виктора Шкловского я встретила Константина Богатырева, о котором много слышала в детстве: где-то там, на периферии родительских общений существовали два больших мальчика, Китик Шкловский и Костик Богатырев. Никита, «Китик», Шкловский появлялся с отцом в нашем доме, да и меня водили к его младшей сестре Варе на елку, а Костю Богатырева я никогда не видала. Никита Шкловский погиб на войне. Костя Богатырев с войны пришел живым, поступил в Московский университет, был арестован по доносу штатного сексота, приговорен к смертной казни с заменой на 25 лет каторги, реабилитирован в 1956-м. Имя его было для меня олицетворением героической судьбы.
Вот этого, давно знакомого незнакомца, увидела я впервые 26 января 1957-го в Шереметьево, на даче у Шкловских, а назавтра обнаружила у подъезда своего дома, где он дожидался меня на лавочке во дворе. Признаться, мне это не слишком понравилось: что за манера — являться без приглашения? Пришлось впустить в дом — не оставлять же на морозе — но и объяснить, что пришел не ко времени и лучше, мол, в другой раз, созвонившись и вообще... Константин на мое неудовольствие внимания не обратил и слушать меня не стал. С ходу, бросив не глядя на стул пальто, которое тут же сползло на пол, легко прислонившись к притолоке, торжественно объявил:
Борис Пастернак.
Памяти Марины Цветаевой
Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По клеенчатой двери прихожей
И в открытые окна мои.
За оградою через дорогу
Затопляет общественный сад.
Точно звери вдали пред берлогой
Почернелые тучи лежат.
Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
Я не плачу, я травлю и режу,
Надо запечатлеть на меди
Эту жизнь, этот путь непроезжий,
Этот дождь, этот сад впереди.
Ах, Марина, давно уже время —
Да и труд не такой уж ахти —
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году.
Я слонялся у Камского плеса,
Где зимуют баркасы во льду...
Константин Богатырев и Пастернак — отдельная тема. Склонный восхищаться тем, что ему нравилось, и восхищение возгонять до космических высот, Костя Пастернака не просто любил — боготворил, преклонялся перед ним, в нарушение библейской заповеди: сотворил себе кумира. Стихами, прозой, беседами о нем, телефонными звонками и встречами Кости с ним Борис Леонидович присутствовал в нашей жизни столь плотно, что не припомню, хотелось ли мне когда-нибудь снова увидеть его. Скорее, тянуло спрятаться под сень любимого с отроческих лет Мандельштама.
И все-таки однажды — в декабре 1959-го, случайно и неожиданно — увидала сравнительно близко: на спектакле посетившего Москву Немецкого драматического театра. Давали «Фауста» с Густафом Грюндгенсом в роли Мефистофеля. Актер и режиссер Густаф Грюндгенс тоже принадлежал к числу страстных увлечений Кости. В пору послевоенной службы в Берлине, двадцатилетним лейтенантом оккупационных войск, переодевшись в штатское и пользуясь своим безупречным немецким, он не пропускал событий возрождавшейся культурной жизни в поверженной столице, главным из которых стали для него спектакли с участием Грюндгенса. Костя знал его, мягко говоря, сомнительный творческий путь, ценил роман Клауса Манна «Мефистофель. История одной карьеры» (который со временем и перевел на русский) — жестокую сатиру на Грюндгенса, но все тому прощал за блеск таланта и непревзойденное совершенство в искусстве перевоплощения.
Борис Пастернак с Зинаидой Николаевной сидели чуть ближе нас к сцене, также по правую сторону от прохода. В антракте Борис Леонидович ушел за кулисы, вернулся на свое место после третьего звонка. Когда занавес опустился в последний раз, артисты откланялись, аплодисменты отзвучали, публика и не думала расходиться, с восторгом и ужасом созерцая спектакль, разыгрывавшийся теперь в партере. Пастернак, стройный, седовласый, элегантный, возвышался над рядами кресел и гудел на весь притихший зал:
— Костя, я говорил с труппой, они очень хотят ко мне приехать, но ведь вы знаете, Переделкино — запретная зона, иностранцам туда нельзя. Надо как-то устроить, чтобы никто не узнал. Вы вот что...
Б. Л. помедлил, обдумывая план. Я отвела глаза от него и подняла их на Костю. Тот стоял рядом, поднявшись с кресла, и через несколько театральных рядов, разделявших их, смотрел на Пастернака с тем выражением безмятежного счастья, которое неизменно являлось на его лице при виде кумира, при чтении его стихов и даже при упоминании его имени.
— С поезда, если поедут электричкой, их могут снять, бывало уже такое. Думаю, на такси надежнее, — продолжал Борис Леонидович. — Привезите их ко мне на такси. Только не берите первое на стоянке, может быть подослано. Непременно второе, а пожалуй, что и третье. И, прошу вас, никаких разговоров по телефону на эту тему: всё подслушают, всё испортят.
Надо родиться в России при Сталине и прожить там всю мою тогда еще коротенькую жизнь, чтобы понять степень ужаса, охватившего меня во время этой беседы: чем она могла обернуться для ее участников, страшно было подумать. А Костя беспечно обсуждал и уточнял во всеуслышанье детали «преступного замысла», был горд и счастлив минутой и не в моих силах было его защитить. В поисках поддержки, подсказки, совета я взглянула на жену Б. Л. Та тоже уже не сидела, а стояла рядом с мужем, касаясь его плечом. И будучи в отличие от меня женщиной суровой, да и старше раза в два с лишним, она живо прекратила небезопасное обсуждение самым простым и решительным образом:
— Боря, машина ждет. Боря, мы задерживаем шофера.
Реплика сопровождалась энергичным рывком за полу пиджака. Пастернак, продолжая давать Косте подробнейшие противозаконные инструкции и наивные наставления на тему: как одурачить КГБ, слегка дернулся, попятился вслед за ускользающим пиджаком и увлекаемый дальнейшими подергиваниями и потягиваниями, в конце концов повернулся и последовал за женой. Сидящие на его пути зрители поспешно и почтительно вскочили, прижимаясь к спинкам кресел и, хотя они просто давали ему дорогу, мне показалось, испуганно от него отшатнулись.
Свет в зале погас. Представление завершилось.
Год 1960-й. Москва. Потаповский переулок
Когда Костя сказал, что мы приглашены Пастернаком на завтрак к Ольге Ивинской, я ничуть не обрадовалась, скорее, испугалась и долго изводила Костю вопросами: правильно ли он понял и уверен ли, что приглашение относилось и ко мне. В конце концов совсем перетрусила: как войти, что сказать, где бы раздобыть шапку-невидимку? На деревянных негнущихся ногах переступила порог нарядной комнаты Ольги Всеволодовны, наполненной к тому времени большим количеством незнакомых мне людей, в надежде, что меня никто не заметит. Не тут-то было! Борис Леонидович задержал мою криво протянутую онемевшую от страха руку, которая даже не ощутила прикосновения его губ, оглядел столь пристальным, внимательным, таким молодым заинтересованным мужским взглядом, что робость моя возросла дальше некуда. Зато знакомство с Ольгой Всеволодовной, напротив, чуть оживило: она была домашняя, полная, небрежно причесанная, непринужденно-вальяжно расположившаяся на диване и так естественно не проявила никакого интереса к еще-одной-кем-то-приведенной-гостье, что мне стало поспокойнее. А с ее дочерью Ириной я не раз встречалась на московских тусовках и у Геннадия Айги; правда, к моему огорчению, она тут же ушла, как выразилась, «в лавочку», — оказалось, что под «лавочкой» подразумевался Литературный институт.
— Как Ирочка похорошела, — произнес вслед ей Борис Леонидович. — И, обратившись к Ольге, добавил простодушно, — может, не стоит ей выходить за Жоржа? (Жорж Нива, молодой французский славист, считался тогда женихом Ирины).
Теперь можно и оглядеться. Среди гостей узнаю Николая Михайловича Любимова, почитаемого всеми нами переводчика зарубежной классики. Внимание притягивает незнакомая мне женщина: она держится чуть отстраненно, не произносит ни слова, но облик ее столь значителен и строгая мимика так выразительна, что, как мне кажется, все постоянно оглядываются на нее. Позднее я услышу ее имя: Ариадна Эфрон.
Борис Пастернак — о, он сильно изменился с чистопольских времен: теперь он необыкновенно красив, он просто великолепен! — сообщает новость, которая, судя по интонации и выражению лица, представляется ему весьма забавной: некая швейцарка прислала ему книгу его ранних стихов в своем переводе на немецкий, вот, мол, «удружила»! Поскольку никто из гостей не разделяет его веселости и не находит поступок неведомой нам переводчицы и ее издателей нелепым, а напротив, радостно его одобряет (однако, зная его отношение к своему творчеству тех лет, никто не осмеливается вступать в открытый спор), Пастернак, в поисках сочувствия, поясняет:
— Это ведь читать невозможно, там и по-русски ничего понять нельзя, это не для людей! Это — для рыб. — И уточняет: — Для аквариума.
За столом Пастернак рассказывал о Кнуте Гамсуне. Он только что прочел его жизнеописание, присланное ему кем-то из-за границы в подарок. Говорил о Гамсуне, но слышно было, что — о себе. Ни одно произведение писателя не называлось. В его биографии упоминался только тот факт, который совпадал с биографией рассказчика: присуждение Нобелевской премии. Но самым важным для Бориса Леонидовича казалось поведать о трагическом моменте в жизни Гамсуна, когда тот, в 30-х годах выступивший в поддержку фашизма, а во время второй мировой войны встречавшийся с Гитлером и Геббельсом, подвергся в своей стране остракизму, когда читатели стали возвращать ему книги. Об этом Пастернак рассказал дважды, словно бы сомневаясь, что слушатели поняли с первого раза. Трудно поверить, что Борис Пастернак мог уловить какое-то сходство между искренним возмущением норвежцев политическими симпатиями Гамсуна и его поступками, их разочарованием в любимом писателе, и той организованной КГБ травлей, объектом которой стал он сам в Союзе, но... рассказ звучал очень уж эмоционально и личный оттенок отчетливо прослушивался в нем. Звучал — и вдруг оборвался внезапно, напомнив мне столь же резко оборванный чистопольский монолог о несовершенстве шекспировской пьесы.
— Что же это я? Все говорю-говорю. Наверное, ужасно всем надоел? — смущенно, но и не без лукавства осведомился Б. Л.
Минутное молчание обескураженных гостей нарушил мелодичный, чуть ниже обычного своего тембра и потому бархатистый голос Ольги Ивинской.
— Боря, — многозначительно произнесла она, и чуть помедлив, продолжила, с расстановкой, внятно произнося каждое слово: — Слушать тебя — такое счастье. Что еще нужно человеку?
О, где ты, шапка-невидимка?! Мне хотелось провалиться сквозь землю, залезть под стол от стыда: такие слова — вслух? При всем честном народе? Как она могла? Я искоса взглянула на Бориса Леонидовича: он оборотился к Ольге Всеволодовне и ласково смотрел на нее; бросила взгляд на гостей — никто под стол лезть не собирался и никакой неловкости не испытывал. В памяти всплыла другая сцена: зрительный зал после «Фауста», суровое: «Боря, машина ждет, мы задерживаем шофера», подталкивания и понукания.
Быть женщиной — великий шаг
Сводить с ума — геройство.
Нет, эту науку мне никогда не освоить.
Еще за дверью, поворачивая ключ в замке, мы слышали, как в нашей квартире звонит-заливается телефон.
— Костя, лицо вашей жены кажется мне знакомым. Я ведь видел ее? Ребенком? В Чистополе? Ее называли тогда... — он запнулся, припоминая. Костя нехотя (он не любил мое детское имя) подсказал:
— Зайка.
— Заяц, — поправил Борис Леонидович.
Дата завтрака у Ольги Ивинской сохранилась в моей записной книжке: 21марта 1960 года. До кончины Бориса Пастернака оставалось 70 дней.
Послесловие.
ПЕРЕДЕЛКИНО. СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.
Могила Бориса Пастернака стала частью переделкинского пейзажа. Как и предсказала Анна Ахматова:
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
Мы бывали там часто, далеко не всегда посещения носили скорбный характер. Мы дружили с Евгением Борисовичем и Еленой Владимировной Пастернаками, дружили наши сыновья. Как-то в начале лета с Аленой и детьми принесли корзину цветочной рассады. Мальчики — Петя и Боря Пастернаки и мой Костя — носились среди памятников, играли в прятки; Алена высаживала в грунт тоненькие нежные росточки; я спускалась вниз за водой, поливала посадки.
Не припомню, как долго мы там пробыли, не припомню, сколько посетителей прошли мимо. Помню только, что шли они один за другим. Каждый вежливо кланяется, спрашивает разрешения подойти к памятнику, опускает на постамент букетик, молча стоит с минуту, отступает деликатно, спиной, к ограде, не глядя, ставит каблук на венчик свежей рассады, придавливает подошвой соседний, еще раз отвешивает поклон, уходит. Алена терпеливо исправляет повреждения, но тут же является следующий почитатель и — все приходится начинать сызнова. Я восхищаюсь выдержкой Алены, негодую и бормочу себе под нос детскую считалку:
А мы просо сеяли-сеяли,
А мы просо вытопчем, вытопчем...
И вдруг догадываюсь: ведь это оно и есть — всенародное признание и всенародная любовь, высшая награда поэту, о которой мечтал и которую предсказывал себе и служителям русской поэзии Александр Пушкин:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный
К нему не зарастет народная тропа.
Ладно, пусть уж вытаптывают саженцы, лишь бы тропа не зарастала.
В одну из первых пастернаковских годовщин, 30 мая, мы с Константином, проводив на станцию друзей, по дороге к себе на дачу, в поздний уже час поднялись на горку, вернулись к могиле, чтобы постоять там в одиночестве. Но кто-то опередил нас. Толстая свеча, наполовину оплывшая, освещала и горельеф Пастернака, и низко склоненное лицо того, кто сидел против памятника, в ограде. Помолчали, глядя на огонь. Костя прочел негромко из последних, не печатавшихся: «Нобелевскую премию» и «Душа моя, печальница...» Когда засомневался на миг в похожих строках, где чередуется «душа-печальница» и «душа-скудельница», незнакомец подсказал верное слово. Выходило, что стихи он знал и — наизусть. Для нас в те годы то был знак, пароль: свой. Однако беседы не завязалось, не подходящее было место. Да вскоре он и заторопился:
— Пора, не пропустить бы электричку.
Мы тоже поднимаемся со скамьи, объясняем, что здешние, на станцию не спешим. В светлом сумраке летней ночи мужчины вглядываются друг в друга: знакомы? встречались?
И одновременно называют себя:
— Костя Богатырев.
— Андрей Синявский.
Мы еще долго следим за мерцающим все глуше огоньком свечи, а когда он окончательно гаснет, внезапно, для самих себя неожиданно, даем друг другу клятву: тот из двоих, кто останется, овдовев, похоронит ушедшего — здесь, на Переделкинском кладбище.
Первым, кто скончался, был наш брак. А потому — не я выбирала место для могилы Константина Богатырева. Но похоронен он именно тут, на склоне горы, в Переделкине, в виду пастернаковской дачи, чуть ниже трех сосен у памятника поэту.
1 Б. Пастернак — Д. Фельтринелли. 30 июня 1956 г.
2 Чуковский К. И. Дневник. Т. 2. 1930—1969. М., 2003. С. 285. Запись от 1 сентября 1956 г.
3 Впервые выдвижение Пастернака случилось в 1946 году и повторялось каждый год до 1950-го. Затем его кандидатура выдвигалась еще и в 1957 году.
4 Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952—1962. М., 2013. С. 344






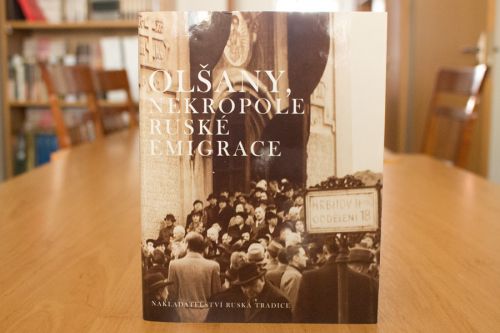
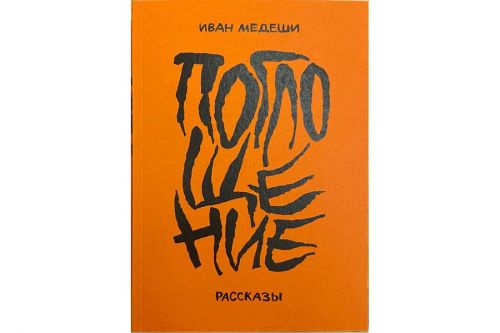


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
теги: новости, 2024
Уважаемые наши читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим вам сообщить о том, что подготовлен макет последнего в этом году номера нашего журнала. Журнал "Русское слово" №12 сверстан и отдан в печать в типографию. К...
Благотворительный вечер
Благотворительный вечер
теги: новости, 2024
Дорогие друзья! Рождество и Новый год — это время чудес, волшебства, теплых семейных праздников и искреннего детского смеха.Фонд Dum Dobra не первый год стремится подарить частичку тепла украинским детям- сиротам, потерявшим ...
Пражская книжная башня — территория свободы
Пражская книжная башня — территория свободы
теги: культура, история, 2024, 202410, новости
С 13 по 15 сентября в Праге с большим успехом прошла первая международная книжная выставка-ярмарка новой волны русскоязычной литературы Пражская книжная башня. ...
Государственный праздник Чехословакии
Государственный праздник Чехословакии
теги: новости, 2024
28 октября Чехия отмечает День образования независимой Чехословацкой республики. День создания независимого чехословацкого государства является национальным праздником Чешской Республики, который отмечается ежегодно 28 октября. О...
Из путинской клетки
Из путинской клетки
теги: 202410, 2024, культура, новости
В саду Валленштейнского дворца 30 сентября 2024 года открылась выставка «Путинская клетка — истории несвободы в современной России», организованная по инициативе чешского Мемориала и Сената Чешской Республики. ...
Воспоминания Александра Муратова
Воспоминания Александра Муратова
теги: новости, 2024
14 октября с.г. из типографии вышла первая книга "Воспоминания" Александра Александровича Муратова многолетнего автора журнала "Русское слово" Автор выражает слова благодарности Виктории Крымовой (редактор), Анне Леута (графическ...
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
теги: новости, 2024
Уважаемые читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим сообщить вам о том, что десятый номер журнала "Русское слово" сверстан и отдан в печать в типографию. Тираж ожидается в ближайшее время о чем редакция РС сразу все...
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
теги: культура, 2024, 202410, новости
Третьего октября в пражской галерее «Беседер» открылась выставка работ украинского художника Андрея Коваленко. ...