Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-десерт.
С 1924 по 1992 год московская улица Долгоруковская называлась Каляевской. Неподалеку от нее, в сквере на площади Борьбы, к десятой годовщине со дня смерти Венедикта Ерофеева 11 мая 2000 года открыли памятник героям поэмы «Москва — Петушки». Скульптур две: одна из них — Веничкина (или альтер эго писателя) с прижатым к груди чемоданчиком, другая — его возлюбленной, той самой, «с косой от попы до затылка», к которой он и едет в Петушки. Известно, что скульптуры первоначально стояли не здесь и не вместе: Веничкина — с 1998 года на Курском вокзале, его любимой — в Петушках, где «жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет», но по ряду причин (называют и отсутствие договоренностей с железнодорожным начальством, и вандализм вокзальной публики) памятник оказался именно в этом районе, где герой поэмы Ерофеева принял кориандровой, направляясь с Савеловского в «центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть», а в итоге опять попасть «прямо на Курский вокзал».
«Ты жил в углу, мой Веничка, постранствуй-ка в пространстве»
Венедикта Ерофеева называют самым первым и самым значительным постмодернистом русской литературы ХХ века, своим творчеством объединяющим «пролетариев, гуманитариев, военных, пацифистов, западников, славянофилов — примерно как водка». Ерофеев, несомненно, фигура легендарная. Хоть он и утверждал, что «никого нет более прозрачного и беззагадочного, чем русский», ему удалось наплодить о себе «уйму легенд, „дез“, апокрифов», которые он «пестовал и множил». Приятель писателя Анатолий Иванов, предупреждая его будущих биографов, говорил: «Не завидую тем, кто возьмется за подлинное немифологизированное жизнеописание Венедикта Васильевича Ерофеева. Отделить истинность от театрализации жизни непросто. Каков он настоящий, видимо, до конца не знает никто».
В «Краткой автобиографии» Ерофеев перечислил просто сухие факты: где родился, учился, работал, когда и что написал. Из немногочисленных интервью, в частности из интервью Леониду Прудовскому, можно узнать некоторые подробности его жизненного пути: «Родился в 1938 году, 26 октября [в автобиографии названа дата 24 октября]. Родители были грустная мамочка и очень веселый папочка. Он все ходил и бл***вал, ходил и бл***вал, и, по-моему, кроме этого, ничем не занимался. <...> А мамочка переживала». После ареста отца, который «по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол», «маменька сбежала в Москву». Сестра писателя Нина Фролова вспоминала: «Мама, по-видимому, так решила: если она уедет, то государство о нас позаботится. К нам действительно сразу пришли из милиции и стали спрашивать, куда она уехала». Венедикта с братом Борисом забрали, и они оказались в детском доме «г. Кировска Мурманской области», где он, по его словам, «прозябал».
О детском доме не осталось «ни одного светлого воспоминания» — «сплошное мордобитие и культ физической силы»: «Я был нейтрален и тщательно наблюдателен». «Маленькая и очень удобная позиция наблюдателя» была «не вполне высока», но ему было наплевать на «высокость». После возвращения матери с 8 по 10 класс Веничка учился уже в обычной школе, где «единственный из всех десятых получил золотую медаль»: «У нас были дьявольски требовательные учителя. Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силком туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольском полуострове. Они, бл***ги, из нас вышибали все, что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом».
После окончания школы решил поступать в МГУ: «Когда я кончал 10-й класс, в это время на Ленинских горах воздвигли этот идиотский монумент на месте клятвы Герцена и Огарева. И я решил туда к нему припасть <...> вот и двинул, и впервые в жизни пересек Полярный круг, только в направлении с севера на юг... И вот я на семнадцатом году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые… <...> А тут увидел я корову — и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем... И вот 55-й год. Там с медалью было только собеседование, и этот м***к так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. Что ему еще оставалось? А этот выход был входом в университет. На филологический».
Учившийся вместе с Ерофеевым в университете Владимир Муравьев вспоминает: «Когда Ерофеев приехал с Кольского полуострова, в нем еще не было ничего, кроме через край бьющей талантливости и открытости к словесности. Он всю жизнь читал, читал очень много. Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная. Но читал не все, что угодно. У него был очень сильный избирательный импульс, массу простых вещей он не читал, например, не уверен, что он перечитывал когда-нибудь „Анну Каренину“. Не знаю, была ли она вообще ему интересна. Он, как собака, искал „свое“. Вот еще в общежитии попались ему под руку „Мистерии“ Гамсуна, и он сразу понял, что это — его. И уж „Мистерии“ он знал почти наизусть. Данные его были великолепны: великолепная память, великолепная, незамутненная восприимчивость. И он совершенно был не обгажен социалистической идеологией».
МГУ был первым высшим учебным заведением, откуда Веничка «вышиблен был в основном военной кафедрой»: «Я этому подонку майору, который, когда мы стояли более или менее навытяжку, ходил и распинался, что выправка в человеке — это самое главное, сказал: „Это — фраза Германа Геринга: «Самое главное в человеке — это выправка». И между прочим, в 46-м году его повесили“». Владимир Муравьев называет совсем другую причину, почему Ерофееву пришлось покинуть университет: «Что касается вылета Ерофеева из университета, то здесь мне приходится разрушить легенду о гонениях — его вышибли за постоянный отказ сдавать что-нибудь, посещать что-нибудь <...>. Веничка самым насмешливым образом говорил, что, мол, его исключили. Время от времени ему импонировала роль страдальца. Его никто не исключал, с ним бились бог знает как, хотели его оставить, он первую сессию сдал с полным блеском, и вообще было понятно, что он прирожденный филолог. <...> Была даже такая история: его встретил Роман Михайлович Самарин — был такой профессор — на лестнице в МГУ: „Ну, Ерофеев, вы когда собираетесь сдавать сессию?“ — на что Веничка, проходя, ткнул его в брюхо пальцем и сказал: „Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?“ — и пошел наверх. Надо сказать, что даже после этого его не исключили. <...> Первую сессию он сдал на пятерки для себя без всякого напряжения. И вторую сдал, уже с некоторым скрипом, но его тогдашняя пассия выгоняла его на экзамены (он ей этого не простил). На зимней сессии второго курса его вышибли». Сам он утверждает также, что «просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары», потому что «и скучно было, да и незачем <...> не вставал и не выходил <...> видимо, не вставал, потому что вставали другие».
«Вышибали» Венедикта Ерофеева еще не раз — из Владимирского, Коломенского и Орехово-Зуевского пединститутов. В «неучебное» время приходилось работать — грузчиком, подсобником каменщика, истопником-кочегаром, приемщиком винной посуды, бурильщиком в геологической партии, стрелком военизированной охраны, библиотекарем, монтажником кабельных линий, лаборантом. И география его жизни тоже впечатляет: Москва, Заполярье, Брянск, Тамбов, Мичуринск, Орел, Липецк, Смоленск, республики бывшего СССР — Украина, Белоруссия, Литва, Узбекистан, Таджикистан.
Несмотря на то что система не приняла и не поняла «лишнего человека» [в записных книжках он напишет, что «лишний человек — это звучит горько»], среди думающей части молодых людей — особенно в студенческие годы — он пользовался удивительным уважением, многие оказывались под его влиянием — и не только благодаря его эрудиции и знаниям. Поэтесса Ольга Седакова, которая общалась с ним с октября 1968 года, вспоминает: «Позиция его, причудливая или просто чудная — как он говорил: „с моей потусторонней точки зрения“, — глубоко последовательна. То, что на одну тему он мог говорить противоположные вещи, тоже входит в эту последовательность. При всей эксцентричности и как будто крайней субъективности, его потусторонняя точка зрения близка к тому, что называют „голосом совести“. Не знаю, какие у него были отношения с самим собой, то есть ставил ли он себя перед тем судом, какому подвергал происходящее. Но его обыкновенно безапелляционные суждения почему-то принимались без сопротивления. Почему-то мы признавали за ним власть судить так решительно. Чем-то это было оплачено. Может быть, как раз этим его потусторонним, прощающим положением. Во всяком случае, право „последнего суждения“ он приобрел не литературными достижениями. Я познакомилась с ним до того, как были написаны всемирно известные „Петушки“ — и уже тогда меня поразило, что все присутствующие как бы внутренне стояли перед ним навытяжку, ждали его слова по любому поводу — и, не споря, принимали. Сначала мне показалось, что они какие-то заколдованные, но очень быстро такой же заколдованной стала я».
Под обаяние личности Венедикта Ерофеева попадали люди взрослые и вполне состоявшиеся. С 1975 года он стал бывать по приглашению Вадима Делоне в Абрамцеве на даче, которую арендовал его отец — Борис Николаевич Делоне, член-корреспондент Академии наук СССР. Борис Николаевич не скрывал своего удивления: «Черт-те что, я сам профессор, дореволюционный причем! Сын профессора. Мама окончила Смольный… И рядом с Ерофеевым, который учился в поселке Чупа и закончил школу в Кировске, я то и дело себя чувствую дикарем с острова Пасхи, настолько он образован!»
«Я на мир не смотрю, я глазею на него»
Многие из тех, кто близко знал Венедикта Ерофеева, говорили о том, как широк был круг его интересов. Он очень любил классическую музыку, особенно Малера, Сибелиуса, Шостаковича (о нем вроде бы был написан роман, но его черновая рукопись была потеряна безвозвратно — хотя некоторые из исследователей творчества считают этот факт очередной Веничкиной мистификацией). Любил скандинавскую и английскую литературу, из русских классиков — Гоголя, раннего Достоевского, Салтыкова-Щедрина, хорошо знал классическую русскую поэзию, преклонялся перед творчеством Цветаевой, а вот Булгаков оставил его равнодушным (признавался в интервью, что так и не осилил «Мастера и Маргариту» — «дохожу до 38 страницы и не могу, мне невыразимо скучно»). Из философов, безусловно, очень ценил Розанова. «Могу похвалиться, — говорил он, — что я первый обратил на него внимание, когда о нем страшно было даже говорить. Прочел несколько его „Опавших листьев“. Многие московские литераторы сейчас пишут на темы российской истории, морали, о российских судьбах... Я им дал понять, что Розанов более чем за полвека до них сказал об этом крупнее, ярче». Когда же в интервью его попросили «определить свое место в пантеоне великих», он ответил, что «между Кузьмой Прутковым и Вольтером», но Прутков «все-таки впереди».
Интересовался Ерофеев и представителями современной литературы, но очень своеобразно оценивал степень их талантливости: «Я измеряю размах и значимость писателя тем, сколько бы я ему налил, если бы он вошел в мой дом. Отчего бы не мерить такой меркой? Белову я бы не налил ни капли, Астафьеву — 15 граммов, Распутину — граммов 100. Василю Быкову — целый стакан с мениском. А тем более Алесю Адамовичу. А больше и некому. Фазиль Искандер пусть сам бегает за выпивкой в своих тренировочных штанах. Я его не люблю за его невлюбленность ни во что и любование самим собой. О ком еще говорить? Неужели об Айтматове, которого я удавил бы своими руками?» В других интервью был еще более категоричен: Юлиану Семенову — «воды из унитаза», а Евгению Евтушенко — «бормотухи».
Выросший и повзрослевший в атеистическом Советском Союзе, Венедикт Ерофеев очень хорошо знал Библию. На вопрос, что значит для него Библия, отвечал: «Это то, без чего невозможно жить. Я жалею людей, которые ее плохо знают. Я ее знаю наизусть. Этим могу похвалиться. Я из нее вытянул все, что только может вытянуть человеческая душа, и не жалею об этом. Человека, который ее не знает, считаю чрезвычайно обделенным и несчастным. <...> Я Библию тихонечко держал в тумбочке общежития ВПГИ, а те, кто убирали в комнате, ее обнаружили. С этого началось! Мне этот ужас был непонятен, ну подумаешь, у студента Библия в тумбочке!» За чтение Библии, как он утверждает, его и выгнали из Владимирского пединститута. О религиозности Венички писал его друг Владимир Муравьев: «У самого Венички всегда был очень сильный религиозный потенциал. Вообще, религиозный потенциал заложен в душе каждого человека, он может найти применение и созидательное, и разрушительное. А чаще — и то и другое. У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он разрушал ее, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный оттенок. Как, кстати, и у декадентов, которые были ему близки. Но, несмотря на свой религиозный потенциал, Веничка совершенно не стремился жить по христианским законам. Его религиозность — в постоянном ощущении присутствия высшей силы, попытка ей соответствовать и отвержение законнического способа соответствия путем выполнения инструкций. В нем было ощущение совершения греха, было и раскаяние. Но и это становилось элементом действа». Видимо, не без влияния Владимира Муравьева в 1987 году он принял католичество в храме Святого Людовика Французского в Москве.
Настоящее сокровище для тех, кто любит творчество Венедикта Ерофеева, — его записные книжки. Остроумное, печальное, ироничное, парадоксальное, важное и легкомысленное — всему в них нашлось место. «У меня есть куча идей, рассыпанных в моих записных книжках, до сих пор не реализованных», — говорил он. Большинство Веничкиных записей — настоящие афоризмы:
Любить Родину беззаветно — это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.
С детства приучать ребенка к чистоплотности, с привлечением авторитетов. Например, говорить ему, что святой Антоний — бяка, он никогда не мыл руки, а Понтий Пилат наоборот.
Блажен, с кем смолоду был серп, Блажен, с кем смолоду был молот.
Не возмещу моральной потери, но и подставлять левую щеку потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть левая твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой.
Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.
А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Советскому Союзу».
А веселиться я не люблю, я человек бесШалостный.
Степень бабьего достоинства измерять количеством тех, от чьих объятий они уклонились.
Не имей имущества, а имей преимущества.
Не имей зрения, а имей прозрение.
Идя в ванную, составлять список всего, что надо вымыть, и периодически вычеркивать.
Пригожих людей не люблю, окаянные мне по вкусу.
А вы, друзья, как ни садитесь, все в диссиденты не годитесь.
Угораздило родиться в стране, наименее любимой небесами.
Кто хочет, тот доПьется.
Междометия — самые старые из человеческих выражений, поэтому их надо уважать. «Ой» и «тьфу» намного старше Добра и Истины и следовательно почтеннее намного.
Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она скорее в ожидании какой-то, пока еще неотчетливо какой, но грандиозной скверны, скорее всего возвращения к прежним паскудствам. Россия — самая беззащитная из всех держав мира, беззащитнее Мальты и Сан-Марино. Можно позавидовать Великому герцогу Люксембургскому Жану, но завидовать Мишелю Горбачеву никому не придет в голову.
«Евангелие русского экзистенциализма»
«Москва — Петушки» — самая главная книга Венедикта Ерофеева. Польский профессор Стравинский в предисловии к лондонскому изданию назвал ее «последней вспышкой русского национального сознания перед тем, как окончательно погаснуть». П. Вайль и А. Генис — «книгой алкогольной свободы и интеллектуального изыска»: «„Москва — Петушки“ — это „Исповедь сына века“, это „Герой нашего времени“, это „Сентиментальное путешествие“, это „Всепьянейшая литургия“».
Поэма была написана очень быстро — по словам автора, «с 19 января до 6 марта 1970 года»: «Тогда на меня нахлынуло. Я <...> писал пять недель и пять недель не пил ни грамма. И когда ко мне приехали друзья и сказали: „Выпьем?“, я ответил: „Стоп, ребята, мне не до этого, нужно закончить одну гениальную вещь“. Они расхохотались: „Брось дурака валять! Знаем мы твои гениальные вещи!“»
Рукопись разошлась в самиздате, а потом попала на запад (версий о том, как она там оказалась, существует несколько). «Самая русская» поэма ХХ века была издана в Иерусалиме, в журнале «АМИ», в 1973 году тиражом всего триста экземпляров. После публикации в израильском журнале книгу стали очень активно издавать в Европе и Америке. «Сначала был на меня наплыв стран НАТО, примерно с 76-го по 81-й, потом они отхлынули. Потом пошли страны Варшавского договора», — рассказывал Веничка в одном из интервью. Впервые в России в сокращенном варианте книга была опубликована в журнале «Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 год, № 1, 2, 3 за 1989 год), затем в альманахе «Весть» — в более полном виде, в 1989 году в издательстве «Прометей» — «почти в каноническом».
На Западе «Москву — Петушки» в эмигрантских кругах «считали остроумной, даже блестящей шуткой алкоголика — не более». Но и после публикации на родине мало кто смог по достоинству оценить книгу — «самую блестящую по форме и самую трагическую по содержанию». «Рецензии пустые. Они меня интересуют на час-полтора. Я еще не видел ни одной путной статьи, — говорил Венедикт Ерофеев. — Только одна диссертация из Швейцарии» [речь идет о диссертации филолога-слависта Светланы Шнитман-Макмиллин, в настоящее время профессора Высшей школы славяноведения и Восточной Европы Лондонского университета]. Поэму пытались «как-нибудь пристроить к месту», «объявляя ее то исповедью, то отповедью, то проповедью, то заповедью». Да и герой — «новоявленный „лишний человек“ советской литературы», неустроенный, бесприютный, непохожий на остальных, выбирающий путь «поперек и в сторону» — своеобразный двойник своего создателя — Венедикта Ерофеева, который не уставал повторять: «Все гражданские свершения прошли мимо, слава Богу, потому я чуть-чуть умом и сохранился, а то могло быть хуже».
Незатейливая, казалось бы, история путешествия героя из Москвы в Петушки на электричке с Курского вокзала к своей возлюбленной и сыну превращается «в фантастический роман в его утопической разновидности. Венедикт Ерофеев создал мир, в котором пьянство — закон, трезвость — аномалия, а Веничка — пророк его. Мир — это мир, и он не может жить с сознанием ущербной неполноты своего бытия. В отличие от Творца, Ерофеев творил не на пустом месте: мир уже был, но мир был плох, и следовало создать его заново». Поэма полна различных аллюзий, в том числе библейских, и словно «кишит цитатами» — скрытыми и явными (С. Шнитман-Макмиллин называет около 50 авторов), но это является для читателя своеобразной игрой на узнавание, а Веничка выступает в роли «сказителя-выдумщика, ведущего речевого действа, воссоздающего действительность», чье «слово не подсобное и не затасканное, а „самовитое“, как выражались футуристы». Не случайно поэма Венедикта Ерофеева, по мнению Дмитрия Быкова, «сделалась источником паролей для всей читающей России». Да и сегодня — по понятным причинам — часто цитируют ерофеевские строки о «безучастно круглых и как будто ничем не занятых» глазах его — тогда еще советского — народа:
Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается: ...глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана. Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса. Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз.
Слово в поэме удивительно живое и многомерное: герой Ерофеева «не пошел, а повлекся», швейцар в ресторане Курского вокзала оглядывает его, «как дохлую птичку или грязный лютик», официантка груба с ним именно тогда, «когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих», а сам он согласился бы жить на земле вечно, если бы ему «показали уголок, где не всегда есть место подвигам». Да и пьянство для него — вещь деликатная: похмеляясь утром, он прячется «от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности». Чего стоят знаменитые рецепты Веничкиных коктейлей — у него «богатый опыт» в их создании: «Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса». В коктейлях же есть «и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек»: «Ханаанский бальзам» — это «даже не аромат, а гимн, гимн демократической молодежи»; в «Духе Женевы» «нет ни капли благородства, но есть букет»; от пахучести «Слезы комсомолки» «можно на минуту лишиться чувств и сознания», к тому же его «надо двадцать минут помешивать веткой жимолости» (заменять жимолость повиликой «неверно и преступно»); «Сучий потрох» — «напиток, затмевающий все», после двух бокалов которого «человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет».
«Платоновские диалоги» с попутчиками Венички, разумеется, происходят под водочку и не только — и «все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно». «Черноусый в жакетке» утверждал, что «все ценные люди России, все нужные ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал». И даже хорошая книжка не позволяет разобраться, «кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз».
«Бог и спирт — в этом призвание русского человека, — пишет С. Шнитман-Макмиллин в книге о поэме Ерофеева. — Рождающаяся из этого выбора трагедия — счет, предъявленный жизнью, по которому Веничка Ерофеев последовательно платит на протяжении описанного пути. Он — „новый“, „лишний человек“, но России нужны „новые“, „лишние люди“ — философы, созерцатели, алкоголики, юродивые, а не заносчивые полуграмотные энтузиасты, нацеленные на перестройку мира и разрушающие его».
* * *
Голос писателя Венедикта Ерофеева и его Слово в родной стране зазвучали для широкой читательской аудитории уже во время Перестройки. Но случилось так, что настоящего голоса — в прямом смысле слова — Веничка лишился не без участия советского государства. В 1986 году он заболел — рак горла. В одном из интервью Ерофеев вспоминал: «Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню фамилий, тем более что мне не отдали назад этих приглашений. И приглашения эти были отпечатаны так красиво и на такой парижской бумаге и все такое... И вот тут стали заниматься почему-то моей трудовой книжкой. Ну зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более когда зовет главный хирург Сорбонны — он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались — май, июнь, июль, август 1986 года — и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке — но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, — вот тут уже... Умру, но никогда не пойму этих скотов».
В визе Венедикту Ерофееву было отказано — лечиться пришлось в Советском Союзе. После удаления гортани писатель смог говорить только с помощью голосообразующего аппарата. Он умер в мае 1990 года. В одном из последних видеоинтервью он стоит на Красной площади у Кремля, к которому так стремился его герой Веничка — и увидел только перед своей смертью:
Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем своем великолепии. <...> Топот все приближался — а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до Кремлевской стены — и рухнул. <...> Боже! я вырвался и побежал — вниз по площади. <...> Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. <...> И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего… <…> Они вонзили мне свое шило в самое горло... Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква Ю распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.
Использованная литература:
Ерофеев В. Записки психопата. М., 2001
Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. М., 2003
Сенкевич А. Венедикт Ерофеев. Человек нездешний. М., 2020
Шнитман-Макмиллин С. Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки», или the rest is silence. М., 2022









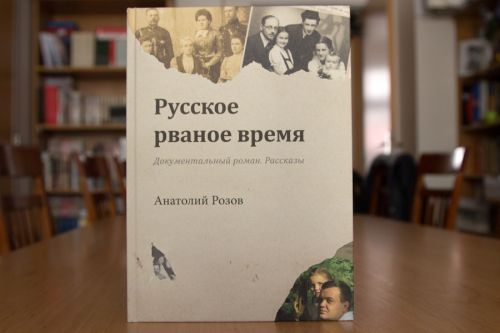

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Благотворительный вечер
Благотворительный вечер
теги: новости, 2024
Дорогие друзья! Рождество и Новый год — это время чудес, волшебства, теплых семейных праздников и искреннего детского смеха.Фонд Dum Dobra не первый год стремится подарить частичку тепла украинским детям- сиротам, потерявшим ...
Пражская книжная башня — территория свободы
Пражская книжная башня — территория свободы
теги: культура, история, 2024, 202410, новости
С 13 по 15 сентября в Праге с большим успехом прошла первая международная книжная выставка-ярмарка новой волны русскоязычной литературы Пражская книжная башня. ...
Государственный праздник Чехословакии
Государственный праздник Чехословакии
теги: новости, 2024
28 октября Чехия отмечает День образования независимой Чехословацкой республики. День создания независимого чехословацкого государства является национальным праздником Чешской Республики, который отмечается ежегодно 28 октября. О...
Из путинской клетки
Из путинской клетки
теги: 202410, 2024, культура, новости
В саду Валленштейнского дворца 30 сентября 2024 года открылась выставка «Путинская клетка — истории несвободы в современной России», организованная по инициативе чешского Мемориала и Сената Чешской Республики. ...
Воспоминания Александра Муратова
Воспоминания Александра Муратова
теги: новости, 2024
14 октября с.г. из типографии вышла первая книга "Воспоминания" Александра Александровича Муратова многолетнего автора журнала "Русское слово" Автор выражает слова благодарности Виктории Крымовой (редактор), Анне Леута (графическ...
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
теги: новости, 2024
Уважаемые читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим сообщить вам о том, что десятый номер журнала "Русское слово" сверстан и отдан в печать в типографию. Тираж ожидается в ближайшее время о чем редакция РС сразу все...
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
теги: культура, 2024, 202410, новости
Третьего октября в пражской галерее «Беседер» открылась выставка работ украинского художника Андрея Коваленко. ...
Выставка в Клементинуме к 100-летию Славянской библиотеки
Выставка в Клементинуме к 100-летию Славянской библиотеки
теги: новости, 2024
В рамках празднования столетнего юбилея Славянской библиотеки 5 сентября 2024 года, в здании Клементинума состоялся международный симпозиум «Славяноведческое библиотечное дело и его влияние на современное общественное образован...