В 1918 году, еще совсем юным, не доучившись в Островском1 реальном училище, Зуров поступил добровольцем в Северо-Западную армию. Был дважды ранен, переболел сыпным тифом, вместе с армией был интернирован в Эстонию, служил санитаром в Русском госпитале.
В 1920 году поселился в Риге, продолжил образование и по истечении двух лет сдал полный курс реального училища.
В 1922 году переехал в Прагу. Поступил в Пражский Политехнический институт на отделение архитектуры и наземных сооружений, проучился там полтора года, но так и не освоился на новом месте. В одном из писем он признавался: «В Праге было очень тяжело. В 1924 году после госпиталя и летнего отдыха я покинул ее, чтобы очутиться около родных полей. К Латвии отошел кусок нашей Псковской губернии. И близость России меня укрепила лучше всех докторов»2.
Зуров вновь вернулся в Ригу, зарабатывал на жизнь репетиторством, работал в журнале «Перезвоны», в газете «Сегодня».
В 1928 году вышла его первая книга ― с повестью «Кадет» и несколькими рассказами. Повесть была автобиографична и рассказывала о судьбе молодого человека, из кадетского корпуса попавшего в Белую армию, а затем вынужденного эмигрировать. В первой же рецензии, написанной известным критиком Юлием Айхенвальдом, был весьма высоко оценен литературный талант дебютанта.
Свою книгу Зуров рискнул послать И. А. Бунину, который, прочитав ее, благосклонно отнесся к дебюту Зурова и ответил очень доброжелательным письмом.
«Очень занят, только теперь прочел Вашу книжку ― и с большой радостью. Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного. Много получаю произведений молодых писателей ― и не могу читать: все как будто честь честью, а на деле все „подделки под художество“, как говорил Толстой. У Вас же основа настоящая. Кое-где портит дело излишество подробностей, излишняя живописность, не везде чист и прост язык, не нравятся мне такие слова, как „сырь“, „гармонь“, „тяжелое тело города“ и т. п. Да все это, Бог даст, пройдет, если только Вы будете (и можете) работать. Кто Вы? Сколько Вам лет? Что Вы делаете? Давно ли пишете? Какие у Вас планы?
Напишите мне, если можно, коротенькое, но точное письмо. Пришлите маленькую карточку.
От души желаю Вам успеха.
Простите, что пишу без обращения ― не знаю Вашего отчества.
Ив. Бунин
7 декабря 1928 г. Грасс»
С этого началась переписка, закончившаяся меньше чем через год, но не потому, что Бунин утратил интерес к молодому писателю, напротив, все более растущая симпатия к нему побудила Бунина в августе 1929 года пригласить Зурова приехать во Францию.
«Дорогой Леонид Федорович,
Уже давно думаю вот что: хорошо ли Вам сидеть весь век в провинции? Не следует ли пожить в Париже? Вы почти в России и возле России настоящей ― все это прекрасно, да недостаточно ли (до поры до времени)? Не пора ли расширить круг наблюдений, впечатлений и прочая, прочая? Нужды Вы, по-видимому, не боитесь, работы, даже черной, тоже, да и не все ли равно, где именно терпеть и то, и другое? Следовательно: почему бы Вам не переехать в этот самый Париж?
Визу достанем. Все дело в подъемных, в средствах на переезд. Но думаю, что и тут кое-что сделаем: выхлопочем, например, небольшую сумму из Парижского „Комитета помощи писателям“3...
Подумайте об этом и напишите мне. Напишите и о том, что пишете, и что думаете делать с написанным, если таковое имеется.
Ваш
Ив. Бунин
8 сентября 1929 г. Грасс»
Из ответных писем Зурова ясно, что перспектива переезда во Францию для него была весьма «соблазнительна», но он высказывает опасение относительно того, где и как он во Франции устроится и как будет обходиться без языка. Бунин же настроен оптимистично и убеждает в том, что бояться не стоит, «язык ― вздор», многие эмигранты, не зная языка, устраиваются на работу. «А главное, ― пишет Бунин, ― в молодости все полезно, даже всякие передряги. В молодости нужно рисковать».
Бунин подробнейшим образом выясняет состояние финансовых дел Зурова, много хлопочет о визе для него, что было нелегко: по обычной, простой въездной визе, которую как раз сделать было нетрудно и недолго, ее обладатель не был бы вправе устраиваться на работу. Бунин пытается помочь Зурову получить трудовую визу и вместе с тем предлагает «рискнуть»:
«Если решите рискнуть, выхлопочите визу только на въезд во Францию ― и приезжайте на первое время к нам, на villa Belvédère, в Grasse. Почти все шансы за то, что мы пробудем здесь до 1 января. Вот Вы и поживете с нами, т. е. в гостях у нас, некоторое время, отдохнете, поработаете литературно, а затем поедете в Париж и будете искать там устроить себя как-нибудь. А может быть, Вам и повезет? Если же не повезет, ― ну что ж, уедете опять в Ригу, только и всего. А некоторую денежную помощь, еще раз говорю, мы Вам непременно устроим».
Участие Бунина в получении визы, с одной стороны, принесло пользу, с другой ― довольно-таки серьезно все запутало. Бунин, чтобы действовать, как он думал, наверняка, обратился одновременно к двум знакомым, и каждый из них сумел добиться успеха, но в результате были сделаны разные визы. Вера Николаевна Бунина была недовольна мужем: «Глупо было обращаться в два места к Зеелеру4 и Зайцеву5, Зурову Зеелер выхлопотал визу вечную, а Зайцев временную, которая и покрыла первую».
Временная виза предполагала пребывание во Франции в течение двух месяцев, после чего пришлось бы подавать прошение о продлении времени пребывания еще на шесть месяцев.
Бунин отправляет Зурову шестьсот франков с припиской вернуть их, хотя бы и по частям, когда тот «будет иметь возможность» ― получит пособие из «Комитета помощи писателям» или каким-то образом заработает. Отговаривает ехать через Австрию ― Италию и предлагает поездом Рига ― Берлин, затем без пересадки Берлин ― Страсбург и так же, без пересадки, Страсбург ― Канны, откуда до виллы, где живет Бунин, всего 17 километров.
В конце ноября 1929 года Зуров наконец добирается до виллы Бельведер. Бунин гостеприимно приглашает пожить у него, завязываются дружеские отношения. И через некоторое время новый жилец даже получает от благосклонного хозяина прозвища: Лось (Зуров был высокого роста) и Скобарь (так называли не только кузнецов, но и жителей Псковской губернии, откуда Зуров был родом). Вера же Николаевна до конца своей жизни звала его Питомцем. Отношения с Буниным затем осложнились, в разные периоды с переходами от близкой дружбы до почти вражды. Но именно Зуров ухаживал за уже весьма пожилым и больным Буниным, фактически став его сиделкой. Он же унаследовал и архив семьи Буниных.
Зуров работал над повестью «Иван-да-Марья» более десяти лет, писал ее, будучи человеком уже очень больным и одиноким. Это повесть о любви, сильной и глубокой, увы, с печальным концом: война вторгается в жизнь любящих людей и делает невозможным их счастье6. Главная героиня Кира, потеряв в трехлетнем возрасте мать, все детство «жила то у бабушки на Днепре, то у деда на берегу Азовского моря», а с отцом, чья профессия инженера предполагала вечные разъезды, проводила лето у Черного моря. Мы предлагаем читателю те фрагменты из повести, которые посвящены воспоминаниям главной героини о жизни в Украине.
Иван-да-Марья
С ее приездом все изменилось. Моя комната наверху была ее счастливой жизнью как бы изменена и согрета, сад, на который она из окна смотрела, — сад с дуплистыми яблонями, в которых было столько гнезд, казался преображенным.
Я слышал надо мной ее шаги и ее голос. Я заснул на походной койке при открытых окнах, и прохлада наполняла мою комнату ночной свежестью трав. Сознание того, что в моей комнате Кира и ее окно открыто в тот же сад, даже во сне наполняло меня ощущением счастья.
Рано утром меня разбудил Кирин голос:
— Федя, чай на столе. Безбожно так долго спать!
Вскочив с постели, я бросился к окну. По волосам моим пробежал утренний холодок, и мне показалось, что не только в саду, но и в доме у нас стало светлее. Кирин голос доносился уже из столовой. Я быстро умылся и выпрыгнул из окна.
— Иди сюда, — закричала мне Зоя, — вот смотри, это настоящее малороссийское платье7.
Тут была и круглолицая Ириша, прибежавшая из кухни с мокрыми руками и полотенцем.
— Вот так наряд, — говорила она.
Я увидел у веранды, в солнце, горячую, темноглазую Киру в малороссийском платье.
— Тебе нравится? — спросила она.
— Да, — ответил я ей, забыв о чае.
— Это я упросила ее одеться, — говорила сестра. — Настоящее малороссийское платье!
— Не платье, — смеясь, ответила Кира, — а рубаха — сорочка, как у нас говорят.
— Ох, сорочкой ее у вас называют? — подхватила Ириша.
— А юбку — спидницей, — прибавила Кира.
— Что же это юбки, торговые? — продолжала расспрашивать Ириша.
— Нет!
— А глажены они как?
— Разглаживать у нас все мастерицы. Сидит в хате, смачивает водой, сложит вот так, — показала Кира, — тянет, чтобы были ровные складки, а потом на печку положит, складка в складку, и сушится она на печи, чем-нибудь тяжелым прижатая. Так разгладить в городе никто не сумеет.
— Ай, ты! — с восхищением восклицала Ириша. — Смотри, Зоечка, рубашка вышита крестиком на груди, на плечах и по вороту круглому.
— Они без канвы вышивают, — сказала Кира, — и мережки8 делают.
— Что такое мережки? — спросил я.
— Погоди, не мешай, — нетерпеливо сказала сестра.
Волосы Кирины были в солнце, а в ее глазах было столько жизни, что сердце мое облилось трепетным горячим теплом. Она стояла, нетерпеливая и веселая, в этой мягкого полотна малороссийской рубашке с красивыми вышивками на рукавах, с ожерельями на шее, и мне казалось, что веселей становился, радуясь и играя, солнечный свет, чище и свежее — зелень нашего старого сада.
— Что же, — спрашивала Ириша, — там у вас и в будни в таких нарядах ходят?
— Ходили, было, так, а теперь это праздничное.
— Знаешь, — говорила сестра, — когда ставили в гимназии «Майскую ночь»9, мы все перерядились, наплели венков из бумажных цветов, надели рождественские синие, золотые, красные бусы. Я маму и Федю пригласила, гимназистки наши парубками переоделись, танцевали, пели, гуляли в серых смушковых шапках10, с девчатами обнимались. Тогда все, даже дурнушки, стали красивыми. Сколько мы накупили желтых, синих, белых и красных шелковых лент!
— Ленты, — сказала Кира, — у нас носит невеста.
— Вот как?! — воскликнула Зоя.
— Просватанная? — спросила Ириша.
— Да нет, еще вольная, — ответила Кира. — На базарах веночки цветные в селах бабы продают, но непременно надо двенадцать лент, таких вот широких, — показала она. — Сорочка вышитая, юбка пестрая, а на груди монисты. Больше всего у нас любят кораллы и дукаты. У бабушки была большая серебряная монета китайская и дукаты турецкие.
— А сережки какие? — спросила Ириша.
— Серьги носят кованые, большие. А на голове венок, цветы свежие. Утром в поле пойдет, веселенький веночек сплетет, и сама рада.
— А какие цветы?
— Барвинок.
— Мы и не знаем такого.
— Цвет у него синенький, крестиком, он по земле тянется, вместе с листьями хорошо вплетается. А то из ромашек и васильков венок сплетет, в поле нарвет, вплетет туда и пшеничный колосок, и любисток. До чего я Полтавщину, Черниговщину и Днепр люблю! Народ веселый, хороший. Вечером, возвращаясь с поля, девушки затянут песню и не умолкают, а там и парубки где-то поют. С поля придут, поужинать собирают, а потом сойдутся у хаты — одна затянет, другие к ней подстают. Ах, если бы вы видели, как по вечерам они иногда разыграются. За словом в карман не полезут. Пляшут и гуляют, поют.
<…>
Кира сказала, что в сосновом бору была раз в жизни под Киевом, в Святошино11.
— Сосны тут у вас по-морскому шумят, — сказала она, остановившись.
— Корабельная строевая сосна. Такие шли на мачты.
— Ну да, — сказала Кира, — таким тут все и должно быть. Я даже не удивилась, как будто в знакомые места попала.
— Давайте все закроем глаза и послушаем, — сказал я, мне захотелось увидеть через этот шум волны и берег, и Кирино море. Кира согласилась. Я, закрыв глаза, слушал: удивительно шумели под ветром, родившимся в этот знойный день где-то наверху, согретые солнцем широкие вершины старых и необыкновенно толстых у корней сосен — широко и как-то важно.
Кира тихо, стоя недалеко от меня, говорила:
— Вот так же и у нас, совсем так. В солнечный день море, не умолкая, шумит, и, словно снова босая, девчонкой, стоишь на горячем песке, а ветер соленый дует с простора в лицо и всю тебя овевает, и волны недалеко все время шумят, и тогда так радостно и легко, что даже кружится голова.
Я слушал, а когда открыл глаза, то у Киры сияло лицо.
— А морская синева иногда такая, — продолжала она, — что хочется танцевать и кружиться от радости, и я любила танцевать, чтобы потом на горячий песок свалиться.
Она знала Азовское и Черное море, на берегах которого никто из нас не бывал, и рассказывала, как ее девчонкой отец возил в Крым и она там полоскалась в Черном море.
— Но бабушка далеко от себя не отпускала, слово брала, что я от берега далеко не отойду.
— Почему?
— Воды боялась. Сидела на берегу, и не только потому, что старики, как она говорила, раньше почему-то в море не купались, — у нее брат мальчиком, купаясь у порогов, на ее глазах утонул, хотя и хорошо плавал. И она всю жизнь воды боялась, хотя кровь у нее была запорожская — горячая, беспокойная и непокорная. Вот и у меня широкое лицо, я даже скуластая, потому что мой прадед в гирлах днепровских12 рыбачил. Я жадная, люблю солнце и без воды жить не могу. <…>
Кира звала к себе на юг гостить не только сестру, но и меня на будущее лето. Неожиданно для меня оказалось, что сестра об этом знает и Кира уже отцу об этом написала и получила согласие. Мы с сестрой ликовали. Кира и Зоя мечтали, как они будущей весной после сдачи зачетов приедут из Петербурга за мною и за летними вещами Зои, поживут здесь неделю.
— Поедем к нам, на бабушкин хутор у Днепра, побываем на порогах, поживем у Днепра, а потом поедем купаться в Крым. Отец обещал, он все устроит.
<…>
Мы вышли на проселок, а там начинались ржаные поля — вначале под бором жидкая рожь, и на этих реденьких полях было много отцветающих и выгоревших на солнце васильков, а потом брат повел нас по мягкой, пыльной дороге, и после бора все было полно светом. День был просто удивительный по обилию солнца и света.
<…> А дальше, склоняясь, войдя в рожь, серпами жали бабы. Начали-то они, видно, на восходе, когда брат был еще в поезде, а мы спали, и, видимо, хорошо потрудились. По снопам видно было, какое тут тяжелое и доброе зерно, и уже снопов положено много, а тут же, у кустов, ребенок в тени сучил голенькими ножками на маленьком одеяле, и стояли крынки, покрытые завернутым в платки хлебом.
— Бог в помощь, — подходя к жницам, сказал брат.
— Спасибо, — ответило сразу несколько голосов.
— Вот и барышни помогать пришли, — распрямившись, сказала одна из них, немолодая, но, видно, веселая.
— А что же, — ответила ей Кира, — дай-ка мне серп. Я тебе помогу.
— Барышня, милая, — ответила та. — Да ты руку серпом порежешь.
— Ну уж нет, — ответила Кира.
— Да дай барышне серп, Агафья, — сказала та, что помоложе. — Пусть бабью работу и она испытает.
А уже все они смотрели на нас и на Киру. Веселая, полная вызова и задора, она передала мне васильки.
— Ну, что же, — сказала тогда пожилая баба, поглядев на своих и протягивая ей серп, — вот он, возьми.
Кира, оставив нас, под смех и замечания взялась помогать, и мои опасения, что у Киры не получится, сменились удивлением. Зоя просто остолбенела, и крестьянки, сначала сделав передышку, смотрели, делая замечания. И мы слышали:
— Смотри-ка, — говорила одна, — правильно захватывает.
— Ну и ну.
— Ай да барышня.
— Вот помощницу-то нашли.
Она, захватывая стебли, подрезала их серпом, клала, потом быстро скрутила свясло и перевязала свяслом13 сноп. Брат, улыбаясь, смотрел на Киру, он любил быстроту, легкость и во всяком деле сноровку, и он, как потом нам сказал, вначале боявшийся за нее, теперь с удовольствием смотрел, до чего она быстро и ладно жнет. Хороша она была, когда разошлась, чувствовалось, как все ее тело во время работы развеселилось, а две бабы помоложе взялись рядом с нею жать. Мы ею любовались.
— Кира неожиданная, — повторяла сестра, — что я тебе говорила, ты еще не знаешь ее.
— А ты что же не помогаешь? — спросила тут одна из баб Зою. — Вот, бери-ка мой серп.
— А я не умею, — растерянно ответила Зоя, смутилась и растерялась как еще никогда.
— Вот так поработаешь недели две, — говорила баба брату, — ржи накланяешься, и во сне-то потом от солнца да от соломы рябит в глазах, на второй день и не разогнуться.
Кира связала пять снопов, придавив коленом, опоясала скрученным свяслом и оторвалась от работы совершенно счастливая. Распрямившись и отдав бабе серп, она стояла вся раскрытая, свободная, большеротая, как сестра потом говорила, ну, совершенная прелесть и радость, и, откинув волосы знакомым движением — тыльной стороной руки, посмотрела на нас.
Я опять пожалел, что она не надела малороссийского платья. Я хотел, чтобы брат ее увидел с кораллами — такой, какой я увидел ее тогда у крыльца. Казалось, она могла тут с бабами так и остаться и с ними все поле дожать. И надо было видеть, какой радостью блеснули ее глаза, когда они ее похвалили.
— Ну, спасибо, вот и я передохнула, — сказала баба, — а то ведь за утро умаялась. <…>
— Да где же ты жать рожь по-бабьи и прясло перевивать научилась?
— Девчонкой я каждое лето у бабушки на хуторе гостила, на Днепре.
— Ай ты, — удивленно сказал дед, — мы здесь таких дальних еще и не видели.
<…>
Мы шли вдвоем, и все вокруг начало таинственно раскрываться и меняться. Мы смотрели на солнце через листья, а они под ветром двигались и трепетали, и там были золотой и синий — и в синем такая брызжущая, стрелками от него летящая золотая радость, а золото с синеватым и красным огоньком — нет одного цвета, и щедрость едина. Я все это видел, потому что у меня было воображение сильнее, чем у сестры, а она теперь играла со мной, уже не ревнуя ко мне Киру и как бы заняв ее место.
— Нет, ты знаешь, все друг в друга переходит.
— Ты прав, — говорила сестра, в первый раз со мной соглашаясь.
— Вот ты так, еще сильнее прищурься и, склонив голову, смотри и смотри, пока не увидишь, — говорил я, и в это время Кира с братом были как бы среди нас, или мы с ними там, казалось, они слышат, и видят, и с нами вместе играют. И я говорил: — Нет, ты подумай, иван-да-марья, может быть, еще цветет, и ты знаешь, мама права, помнишь, она говорила, что если на поросшую иван-да-марьей опушку лесную с утра прийти, а потом заглянуть туда днем или же к вечеру, то в течение дня цвет меняется, в нем несколько оттенков, и лиловое в желтое переходит, а золотое на солнце к вечеру — в темно-лиловое, и все легкое и вырезное. Ты только подумай, откуда эти краски, что дает цвет — солнце или земля, или же все это скрыто таинственно в семенах, как в тех, ты помнишь, китайских шариках, которые мама купила, — они, как легкие горошины, а бросишь их в воду — и распускаются какими-то подводными цветами.
— Как ты все усложняешь, — говорила сестра.
— Вот, как дикий виноград, все и переплетено, да, да, ты понимаешь, были переплетены и их имена, Кира фамилию свою потеряла, теперь у нее наша фамилия, и она теперь уже с нами, ну, как дерево рисуют, вот так и они, — одно в другое переходит, синее в золотое и золотое в синее. Это все неправда, что в учебниках о солнце написано. Они не знают.
— А ты знаешь?
— Да. И я теперь понимаю, что это один свет, а в нем и синева, и золотое, и синее, все переплетается.
Подготовка публикации и комментарии О. Репиной
1 Остров ― город в Псковской губернии, в 40 км южнее Пскова.
2 Цит. по: И. А. Бунин: Новые материалы. М., 2004. Вып. 1 / Сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. С. 248.
3 Комитет помощи русским писателям был создан в Париже в 1919 г. Первоначально распределял деньги, полученные от Американского Фонда. С 1920 г. касса Комитета стала пополняться за счет членских взносов и пожертвований, но в большей степени от доходов с концертов, литературных вечеров и театральных постановок. Материальной помощью Комитета пользовался и сам И. А. Бунин, а также А. И. Куприн, Н. Тэффи, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др.
4 Владимир Феофилович Зеелер (1874―1954) ― юрист, журналист, общественный и политический деятель, в 1920 г. министр внутренних дел Южнорусского правительства. В эмиграции с 1920 г. во Франции. Генеральный секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже, секретарь Центрального комитета «Дней русской культуры».
5 Кирилл Иосифович Зайцев (1887―1975) ― юрист, историк культуры, богослов, издатель. В годы Гражданской войны начальник продовольственного отдела в Южной армии. С 1920 г. в эмиграции в Константинополе, Софии, с 1922 г. в Праге, где читал курс лекций по административному праву на Русском юридическом факультете. С 1925 г. во Франции. Редактор газет «Возрождение» и «Россия и славянство». С 1935 г. жил в Харбине, затем в США, где после смерти жены принял священный сан.
6 События повести происходят до начала и во время Первой мировой войны.
7 Здесь «малороссийское» мы вполне и неоскорбительно можем воспринимать как «украинское», хотя с исторической точки зрения необходимо провести грань между этими понятиями. Слово «Украина» появилось в XII в. и относилось к землям Киева и Переяслава. «Малороссия» (от «малая Русь») возникла в ХІV веке. После того, как Киевский митрополит в 1299 г. перенес свою резиденцию из Киева во Владимир, местные власти не захотели подчиняться Москве и была основана Галицкая митрополия. Константинопольский патриархат исключительно для различения и исходя из того, в какой из митрополий больше епархий (6 против 19), Галицкую митрополию называл «Малая Русь» (Μικρὰ Ῥωσία, Mikrá Rhōsía), а Киевскую с центром во Владимире, а затем в Москве ― «Великая Русь» (Μεγάλη Ῥωσία, Megálē Rhōsía). Термин «Малороссия», таким образом, никакого отношения к России не имеет, как этим ни пытается спекулировать российская сторона.
8 Мережка (мерёжка) ― сквозная узорчатая прошивка на ткани, сделанная посредством выдергивания поперечных ниток.
9 «Майская ночь, или Утопленница» (1830) — повесть Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».
10 Смушковая шапка сделана из смушки ― шкуры ягненка.
11 Святошино ― историческая местность, расположенная западнее Киева.
12 Гирло ― пролив, канал, фарватер, проложенные течением реки в ее подводной дельте.
13 Свясло ― соломенный жгут для вязки снопов.







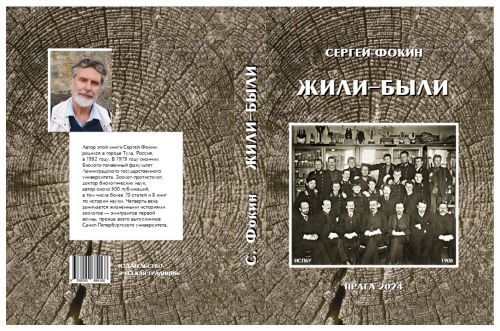


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
Отдан в печать журнал "Русское слово" №12
теги: новости, 2024
Уважаемые наши читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим вам сообщить о том, что подготовлен макет последнего в этом году номера нашего журнала. Журнал "Русское слово" №12 сверстан и отдан в печать в типографию. К...
Благотворительный вечер
Благотворительный вечер
теги: новости, 2024
Дорогие друзья! Рождество и Новый год — это время чудес, волшебства, теплых семейных праздников и искреннего детского смеха.Фонд Dum Dobra не первый год стремится подарить частичку тепла украинским детям- сиротам, потерявшим ...
Пражская книжная башня — территория свободы
Пражская книжная башня — территория свободы
теги: культура, история, 2024, 202410, новости
С 13 по 15 сентября в Праге с большим успехом прошла первая международная книжная выставка-ярмарка новой волны русскоязычной литературы Пражская книжная башня. ...
Государственный праздник Чехословакии
Государственный праздник Чехословакии
теги: новости, 2024
28 октября Чехия отмечает День образования независимой Чехословацкой республики. День создания независимого чехословацкого государства является национальным праздником Чешской Республики, который отмечается ежегодно 28 октября. О...
Из путинской клетки
Из путинской клетки
теги: 202410, 2024, культура, новости
В саду Валленштейнского дворца 30 сентября 2024 года открылась выставка «Путинская клетка — истории несвободы в современной России», организованная по инициативе чешского Мемориала и Сената Чешской Республики. ...
Воспоминания Александра Муратова
Воспоминания Александра Муратова
теги: новости, 2024
14 октября с.г. из типографии вышла первая книга "Воспоминания" Александра Александровича Муратова многолетнего автора журнала "Русское слово" Автор выражает слова благодарности Виктории Крымовой (редактор), Анне Леута (графическ...
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
журнал "Русское слово" №10 уже в типографии
теги: новости, 2024
Уважаемые читатели и подписчики журнала "Русское слово"! Спешим сообщить вам о том, что десятый номер журнала "Русское слово" сверстан и отдан в печать в типографию. Тираж ожидается в ближайшее время о чем редакция РС сразу все...
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
Путешествующая палитра Андрея Коваленко
теги: культура, 2024, 202410, новости
Третьего октября в пражской галерее «Беседер» открылась выставка работ украинского художника Андрея Коваленко. ...